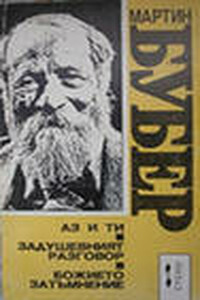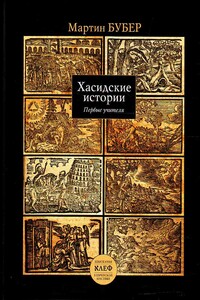Два образа веры | страница 32
32 Следует отметить, что Септуагинта передает оба прилагательных, salem и thamim, словом "телеос".
33 Ср.: Chwolson. Das Letzte Passahmahl Christi (1892). S. 166. Он же. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Judentums (1910). S. 60 f.
34 Стоит обратить внимание на слова ad quosdam, поп ad omnes ("некоторым, но не всем") из иудео-христианского текста, легшего в основу "Климентин"; ср.: Schoeps. Theologie und Geschichte des Judenchristentums (1949). S. 145.
35 Я не могу принять точку зрения Бультмана, согласно которой стихи Мф. 5:17-19 неподлинны и являются "порождением "полемики общины" (Die Bedeutung des geschichtlichen Jesus fur die Theologie des Paulus //Theologische Blatter. VIII. 1921. S. 139; ср.: Die Geschichte der synoptischen Tradition. S. 146 f, 157 f; Theologie des Neuen Testaments. S. 15). Мне кажется, что если "исполнение" понимать правильно, то различие между логиями Мф. 5:17-19 и "другими словами Иисуса", а также его "фактическим поведением" свидетельствует только том противоречии, которое вполне приемлемо с биографической точки зрения.
с этим отношение Нагорной проповеди к Торе может показаться противоположным отношению к ней фарисеев; на самом же деле оно представляет собою лишь потенцирование - возведение фарисейского учения в более высокую степень интенсивности, предпринятое, исходя из определенной сущностной точки зрения, характер которой нужно снова прояснять при помощи сравнения. Разумеется, ни о каком влиянии говорить тут нельзя, ибо фарисейское учение, которое я имею в виду, засвидетельствовало только во времена после Иисуса: здесь тоже должны быть указаны в качестве общих только те элементы, которые включены как в фарисейское, так и в христианское учения. Нужно подчеркнуть, что у еврейских учителей этой эпохи можно отыскать и другое понимание Торы, ибо внутренняя диалектика продолжает развиваться и внутри самого фарисейства; однако нельзя не признать наличие великой и исполненной жизненной силы линии преемственности этого учения.
Наилучшим образом фарисейское учение можно охарактеризовать как учение о даровании направления человеческому сердцу. Человеческое сердце (эта несформулированная предпосылка лежит в основе всего учения) по своей природе не имеет направления, его побуждения и влечения как бы беспорядочно его кружат, и ни одно из тех направлений, которые человек заимствует из своего мира, не устанавливается прочно, каждое в конечном счете может только усугубить растерянность его сердца; лишь в эмуне - твердость и постоянство: нет иного истинного направления, кроме как к Богу. Однако это направление сердце не может получить от человеческого духа, а лишь от жизни, которой живут во исполнение воли Бога. Вот почему Тора указала человеку угодные Богу поступки и дела, совершая которые человек учится направлять свое сердце к нему. Согласно этому замыслу Торы, решающий смысл и главная ценность приходятся не на количественную множественность этих поступков и дел, но относятся к направленности человеческого сердца в них и на них. "Один делает много, другой мало, - было девизом фарисейской академии в Явне (ВТ, Брахот 17а), - лишь бы человек направлял свое сердце к Небесам". Под Небесами здесь, как и во всех схожих контекстах, следует понимать Бога, рассматриваемого с точки зрения человека. Стих из Писания (Втор 6:6): "Пусть эти слова, которые Я предписываю тебе, будут у тебя в сердце" - объясняется тем (ВТ, Мегилла 20а), что все дело здесь - в направлении сердца. Поэтому Храм был назван в честь Давида, а не Соломона, ибо "Милостивый ищет сердца" (ВТ, Санхедрин 1066): речь идет здесь не об исполняющем заповеди, но о том, кто для этих дел направил свое сердце к Богу и посвятил их Ему. В соответствии с внутренней логикой такого понимания замысла Торы, фарисейское учение действительно не только в отношении лишь поступков и действий, исполняемых по заповеди; оно относится ко всем действиям человека: "Все твои дела пусть будут во имя Небес ( Бога) совершены", - читаем в Пиркей Авот (2:12). Грех распознается по тому, что человек в грехе не может направлять свое сердце к Богу; кто грешит, тот отказался направлять свое сердце к Богу. Так что не совершение греха, но его замышление и обдумывание замысла есть вина в собственном смысле. Игра греховного воображения объявляется (ВТ, Йома 29а) преступлением даже более серьезным и опасным, нежели сам грех, ибо эта игра греховного воображения отчуждает душу от Бога. Самое добродетельное поведение в смысле исполнения предписаний может уживаться с сердцем, оставшимся без направления, сердцем беспутным или опустошенным. Но может случиться и такое, что человек, одушевляемый своим порывом к Богу, нарушает какое-либо предписание, не сознавая, не желая того сам, и тогда решающим обстоятельством становится не греховное содержание поступка, а его замысел, направленность: "Грех, совершенный во имя Бога, превыше исполнения заповеди не во имя Бога" (ВТ, Назир 236). И опять же: тот, у кого беспутное сердце, не может по-настоящему научить Торе другого человека,- он не может научить его обрести направление сердца, а без такого направления человек не способен к тому, для чего всякое научение из уст человеческих - только подготовка: раскрыть свое сердце живому голосу Божественного Учителя. Потому-то патриарх Гамлиэл II велел возвещать о том, что в здание школы нельзя входить ученому, чье внутреннее Состояние и внешнее проявление не равны (ВТ, Брахот, 28а). Два столетия спустя на основании такого понимания был отчеканен принцип (ВТ, Йома 726), гласящий: "Ученый, чье внутреннее содержание не равно внешнему выражению, - не ученый".