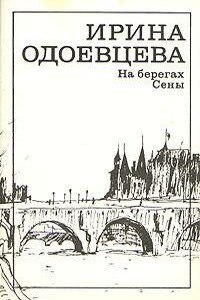На берегах Невы | страница 28
Жена Пуни, растрепанная и милая, старается объединить гостей, если и не беседой, то напитками. Сколько бутылок и как быстро пустые бутылки заменяются новыми.
В маленьких мансардных комнатах много гостей — Белый, Оцуп, художник Альтман, только что приехавший из России Шкловский, Бахрах, и еще много других, незнакомых мне. Лиля Брик, красивая, немного скуластая, внимательноглазая, в фантастической кружевной шляпе, похожей на крылья коричневой бабочки, сидит рядом с Маяковским на диване. Они вдвоем образуют не то центр, не то какой-то остров в этом волнующемся людском море.
Маяковский вдруг громко спрашивает, указывая на меня пальцем:
— Кто эта девушка, которая ничего не пьет и ни с кем не целуется?
Я, действительно, ничего не пью. Не научилась еще.
— Ирина Одоевцева, — отвечает Оцуп.
Маяковский кивает:
— Ах, знаю, знаю.
Недурно. Очень недурно.
Но Шкловский машет на него рукой. Шкловский — наш петербуржец, мы с ним в приятельских отношениях.
— Нет, совсем нет! Это Ада Анушкович написала. А Ирина Одоевцева — это «Лошадь поднимет ногу одну»… «Баллада об извозчике». — Слыхали, конечно?
Но Маяковский, «конечно», не слыхал. Он пожимает плечами.
— Лошадь? Лошадь следовало бы мне оставить. Все равно лучше не скажешь: «Лошадь, вам больно?» А про французские каблучки ей бы подошло. Мило про каблучки. Девически-мило. Мне нравится. Даже очень.
Но, к сожалению, Аде Анушкович вряд ли стало известно, что ее стихи нравились Маяковскому, самому Маяковскому. Умерла она в 30-х годах, о чем я узнала уже в Париже.
Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой?
Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом.
Говоря обо мне, он всегда называл меня «Одоевцева — моя ученица».
Однажды Чуковский — к тому времени я уже стала самостоятельным поэтом, автором баллад и членом II-го Цеха — насмешливо предложил ему:
— Вместо того, чтобы всегда говорить «Одоевцева — моя ученица» привесьте-ка ей просто на спину плакат «Ученица Гумилева». Тогда всем без исключения будет ясно.
Да, дружбы между нами не было, хотя Гумилев в редкие лирические минуты и уверял меня, что я его единственный, самый близкий, незаменимый друг.
Его другом я, конечно, не была. Но у Гумилева вообще не было ни одного друга.
Ни в мое время, ни судя по его рассказам, и в молодости.