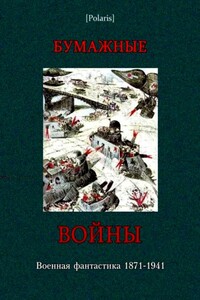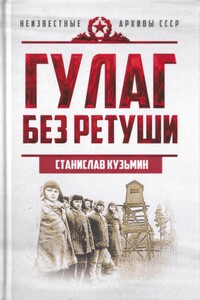Эстафета фантастики | страница 6
И вот вроде бы неоднократно проверенная, тщательно просчитанная попытка изолировать интеллектуалов на трудные времена в "башне слоновой кости" терпит крах в рассказе Рыбакова.
"- У нас будет своя культура, - пытается объяснить сын герою рассказа смысл такой изоляции. - Понимаешь? Нормальная. Которую вы создали не штурмуя, а живя. И ваши внуки... - он запнулся, а потом заговорил с какой-то свирепой, ледяной страстью: - Наши дети будут учиться у вас!"
Двадцать шесть лет мчался звездный корабль к планете у Эпсилона Индейца, и все это время учителя не подозревали, что стали кроликами в грандиозном эксперименте. Не они готовили экспедицию, другие будут заселять Шану, не они заложат первые города, создадут и благоустроят новый мир. А они, на чью долю выпало безмятежное существование в замкнутом пространстве звездолета, в искусственном, ложном, как бы земном мирке, постепенно сделались потерянным поколением - и чему научат они других?
Жестокий и неправильный в своей основе эксперимент поставлен, правда, из благих намерений. Но мало ли было прекраснодушных заблуждений, за которые человечество заплатило слишком дорогую цену. Вспомнить хотя бы библейскую сказку о рае, о вечном блаженстве без пота и слез... Нет, это не путь для человека, это тупик.
И рассказ Рыбакова своего рода тому доказательство "от противного". С самого начала, с первых его страниц чувствуется какая-то недоговоренность, какая-то фальшь, какая-то скрытая ложь. И недосказанное в конце концов прорывается. Отец переживает шок, когда узнает от сына, что у него "между делом" украли полжизни. Художник ведь, если это настоящий художник, тоже рожден для борьбы, для всех радостей и драм, положенных человеку. И для того и пишутся подобные фантастические рассказы, чтобы в реальной жизни тупиков избежать.
II
Хотя тема искусственного интеллекта, робота много моложе космической, но в фантастической литературе последних десятилетий они обе едва ли не одинаково популярны.
Сколько копий было сломано писателями-фантастами и учеными, популяризаторами и публицистами в спорах о том, может ли мыслить машина! Четверть века тому назад такие дискуссии разгорались на страницах научно-популярных журналов, выплескивались в ежедневных газетах. Потом споры поутихли, но это вовсе не означало, что интерес угас. Просто он отошел больше к ученым и специалистам. Баталии происходят теперь преимущественно на заседаниях, на симпозиумах и конгрессах.