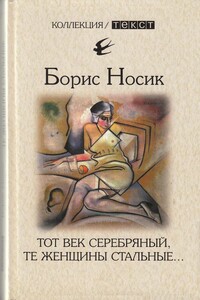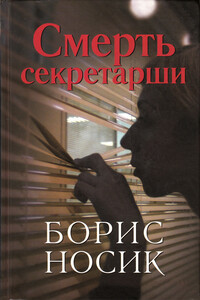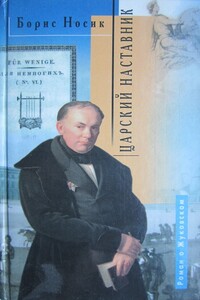Швейцер | страница 15
Тут, конечно, не последнюю роль сыграл и сам образ отца, в чьем богословии, как верно отметил один из биографов, было больше солнца, чем громов и молний. Другой исследователь Швейцера ставит отца первым в ряду его идеалов: «Отец, Иисус, Бах, Гёте».
Сартр писал о себе, что «официальная доктрина отбила у него охоту искать свою собственную веру», что, «убежденный материалист», он «пришел к неверию». Швейцера тоже не удовлетворила официальная доктрина. Исследователи отмечают уже в детских воспоминаниях эту швейцеровскую склонность к беспощадным рационалистическим поискам, желание найти реалистические объяснения везде, где это возможно, но отступиться перед «бездной непознанного и непознаваемого, не боясь признать ее бездонной».
Однажды дождливым летом отец имел неосторожность рассказать маленькому Альберту библейскую легенду о всемирном потопе, и мальчишка тут же озадачил отца вопросом: «А почему вот уже сорок дней и сорок ночей, наверно, льет дождик, а вода до крыш не поднялась, а уж до вершины гор и вовсе?»
В восемь лет отец дал ему Новый завет, и здесь маленького читателя смутила история о волхвах с Востока, принесших дорогие дары младенцу Христу:
«А что сделали родители Иисуса, спрашивал я себя, с золотом и ценностями, которые принесли эти люди? Почему же они после этого остались бедными? Отчего эти волхвы больше никогда не заботились о Христе, тоже казалось мне непостижимым. Потрясло меня и то, что не было никаких сведений о вифлеемских пастухах, которые стали учениками Христа».
Норвежский исследователь Лангфельдт отмечал «безусловное стремление к правде и к объективности мысли» в очень раннем поведении Швейцера; в юности оно привело молодого теолога к разрыву с христианской догмой.
Знакомство с библейскими легендами и притчами дало Альберту и первый толчок к чтению. Впрочем, это пришло уже позднее. А пока были первые детские радости, первые горести, первые детские страхи и первые впечатления от окружающего мира. Этим миром была долина Мюнстера, родная деревня и ее обитатели.
Мальчика пугали невозмутимые шутки церковного ризничего Егле, который по совместительству был могильщиком. Заходя по воскресеньям к пастору, Егле ощупывал лоб маленького Альберта и говорил: «Ага, рога все-таки растут!» На лбу у Альберта было две шишки, и с тех пор, как он увидел на библейской картинке Моисея с рожками, шишки эти его сильно тревожили. Пронюхав об этом, шутник-ризничий продолжал с невозмутимостью справляться о состоянии рогов. И точно кролик, зачарованный взглядом удава, маленький Альберт каждый раз подходил к ризничему, давал ощупать себе лоб и обреченно выслушивал известие о том, что «они все растут!». Только через год отец избавил его от этого наваждения, авторитетно разъяснив, что из всех людей рога были только у Моисея.