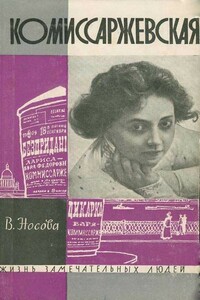Балерины | страница 26
Наступил сезон 1902 года. И Павлова получила звание второй солистки и стала исполнять не только вставные па-де-де, но и целые роли в старых балетах. Вместе они танцевали в «Пробуждении Флоры», «Пахите», в «Волшебной флейте», «Баядерке», и везде им приходилось разыгрывать на молчаливом языке пантомимы похожие друг на друга сцены.
— Я люблю тебя, подари мне твой поцелуй!
— О нет, нет! Я бедная девушка, а вы так богаты, и вы меня скоро покинете!
— Покину тебя? О, никогда, любимая!
— Поклянитесь!
И герой клялся, подняв руку вверх, независимо от того, происходило ли дело в Древней Греции или в старой Франции, играл ли он средневекового рыцаря в латах или молодого денди с моноклем в глазу.
Выход любимого артиста или артистки, как правило, сопровождался аплодисментами балетоманов, почитателей. Прерывалось действие и после каждой удачной вариации, прекрасно исполненного па.
Задавая себе вопрос, «что есть правда искусства», Фокин пришел к грустному выводу — на современной сцене, в балете никто не стремился воздействовать на зрителя «при посредстве созданного художественного образа». На сцене, в любом балете балерина изображала балерину. И о танцовщиках Фокин был того же мнения. «Классические» танцовщики тоже выглядели и держались не так, как требовалось по роли, а как требовалось по танцам, а это большая разница, так как танцы наши не были частью роли, не были выражением характера действующего лица, а были демонстрацией ловкости, виртуозности… Когда я играл мимическую роль, то имел вид, соответствующий… эпохе, но когда танцевал классику, то выглядел, как первый танцовщик, то есть «вне времени и вне пространства…».
Фокин невесело подводил итог. На современной балетной сцене нет перевоплощения артиста, нет истинных переживаний, нет единства действия, так как в любой момент балет может прерываться аплодисментами зрителей; нет единства в стиле костюмов и в средствах выражения.
В те юные годы, когда он страстно утверждал свое «видение сценической правды», он еще не замечал, что, «подталкивая» или «подхватывая» Анну, держал в своих руках не просто Павлову — мифологическую Терпсихору, — а гениальную актрису. Но вот период их совместного участия в старых балетах окончился. Фокин уже сам стал сочинять танцы, и тогда именно в Павловой он нашел идеальную исполнительницу. Он понял, что их взгляды на истинное искусство совпадают, только она шла к этому более длинным путем и что теперь она готова делом поддержать его, во имя художественной идеи даже отрешиться от себя.