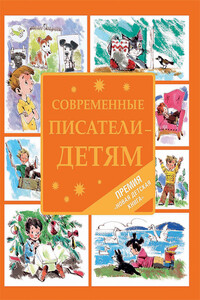Японская художественная традиция | страница 58
Как свидетельствует Чжуан-цзы, «у древних были обычаи и законы, меры и числа, тела и названия, изучение и сравнение. С их помощью низшие служили высшим, но не высшие пасли низших» [14, с.200]. Кстати, может быть, то, с чего начали греки, для китайцев было пройденным этапом? Мы почему-то нередко упускаем из виду возрастную разницу цивилизаций. «От своего учителя, — говорит Чжуан-цзы, — я слышал: „У того, кто применяет машину, дела идут механически, у того, чьи дела идут механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто утратил целостность чистой простоты, тот не утвердится в жизни разума. Того, кто не утвердился в жизни разума, не станет поддерживать путь”» [14, с.192] [25].
Наука не могла быть целью для древних китайцев еще по одной причине.
Древние греки признавали два уровня знания: чувственное знание, или незнание, и понятийное, конвенциональное знание. Высшая истина, по мнению Сократа, доступна только божественному разуму, все может знать только бог, человек же не вправе даже помышлять о всезнании, ибо это карается богами. Самое большее — он может «любить мудрость», быть «философом» (см. [9, с.386]), и потому задача учителя «не в том, чтобы научить чему-нибудь другого, а в том, чтобы разбудить его дремлющий дух и заставить порождать имманентно присущее ему знание» [42а, с.85]. И Платон считал. что «полное и совершенное знание свойственно одному богу» [