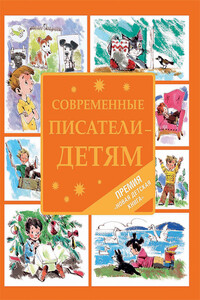Японская художественная традиция | страница 24
Итак, движение, которое привело Японию к модернизации, не казалось японцам чем-то из ряда вон выходящим, ибо оно соответствовало традиционным представлениям о долге и лояльности. Противники сёгуната не думали менять законы предков, а, напротив, мечтали восстановить чистоту «японского духа», потому и настаивали поначалу на «изгнании варваров». Взять у Запада технику, науки, восстановить силы и отразить его притязания, сохранив в неприкосновенности «мораль народа» — вот была их задача. И потому особую силу приобрел еще один девиз, тоже древнего происхождения: вакон ёсай («японская душа, европейские знания»). Правда, раньше он прилагался к китайским наукам (вакон кансай) и означал: взять у китайцев знания, практические науки, сохранив в неприкосновенности «японский дух». Теперь иероглиф кан («китайский») был заменен на иероглиф ё («европейский»), но принцип остался прежним: взять знания, выработанные иностранцами, но не дать им проникнуть в глубь самобытности, чтобы не пошатнулись основы японской нации.
Сторонникам новых порядков, новой системы образования, просветителям Мэйдзи, которым приходилось преодолевать трудности европейских языков и составлять из старых иероглифов новые слова, пришлось немало потрудиться, чтобы доказать невозможность модернизации Японии без модернизации сознания. Такие пропагандисты европейских наук, как Фукудзава Юкити, Накаэ Тёмин, убеждали сторонников новых порядков, что жизнь не изменится до тех пор, пока люди не научатся иначе думать, иначе смотреть на вещи. Но сами просветители, признавая публицистические трактаты, «политические повести», третировали художественную литературу как праздное занятие. Многие, ставшие впоследствии известными литераторами, вспоминали, что в те годы считалось зазорным заниматься писательским трудом. С увлечением читали Карлейля, Спенсера, Канта, Маколея, Мильтона, Эмерсона, на собственную же литературу смотрели как на ненужное и даже вредное дело. Просветитель Накамура Масанао предпослал переводу «Самопомощи» Смайлса рассуждение о «вредности романтической новеллы». И это был общий взгляд на прозу.
В таком отношении был повинен не только дух утилитаризма, но и состояние самой литературы. 15 лет спустя после начала «обновления» страны проза все еще пребывала в жалком состоянии, занимая самое низкое положение в иерархии духовных ценностей. Предубеждение против прозы было унаследовано от предшествующего периода Эдо, когда ее характер определялся вкусами купцов и ремесленников. Образованная часть общества относилась к беллетристике как к пустому делу, расслабляющему волю. Один из просвещенных людей своего времени, Кайбара Экикэн, называл знаменитые повести древности «Исэ-моногатари» и «Гэндзи-моногатари» безнравственными и не рекомендовал их для чтения. Мыслители были заняты спорами, чье учение больше соответствует пути Японии — исконное синто или учения китайских мудрецов. Можно сказать, самурайская воинственность и нетерпимость нашли себе выход в идейных битвах между сторонниками