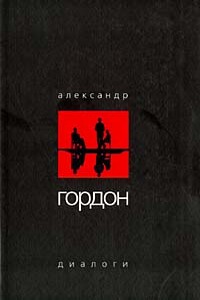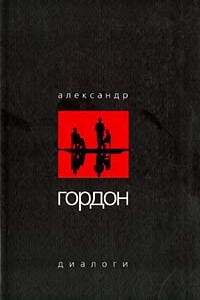Диалоги (май 2003 г.) | страница 69
Р.К. И небольшое обогащение.
В.А. Да, маленькое обогащение, вполне способное проявиться за счёт каких-то естественных процессов.
Р.К. И о которых как раз вы говорили, что их не хватает.
В.А. Да. Хорошо. Так что же получается? Всё, опять проблема решена? Теперь мы выстраиваем таким образом достаточно длинные цепочки, они складываются в такие специальные структуры, РНК или ДНК (остановимся, например, на концепции эволюции РНК-мира) – и всё. Дальше мы попадаем в область эволюции совершенно других структур и других правил. Мы проскочили барьер от неживой химии к живой.
Но нет. И тут возникает проблема. А какая проблема? А проблема возникает вот какая. Эшенмоузер собрал примерно 18 звеньев и сказал, что «я могу собирать так сколь угодно много». На самом деле нет. Оказалось, по теоретическим оценкам, что критической является длина порядка 30 единиц.
А.Г. Что недостаточно.
В.А. Явно недостаточно. Из этих 30 единиц мы никакие специфические – в функциональном смысле – структуры не создадим. А почему критическим оказывается длина порядка 30 единиц? По одной простой причине. По той причине, которая называется «катастрофой ошибок». И вот эта катастрофа ошибок связана со сложностью структур. Мы уже как-то говорили и о парадоксе Левинталя, и о катастрофе ошибок. А всё дело тут вот в чём.
Ведь что такое построить гомохиральную цепочку? Это построить определённую последовательность, например, только из левых молекул. Из очень большого числа всевозможных последовательностей левых и правых молекул, которые можно представить. Оказывается, когда это число становится слишком большим, у вас есть два варианта. Вы должны либо очень точно собирать, либо отказаться от сборки.
Чтобы точно собирать, нужно иметь очень специальные процессы, которые могут обеспечить только такие специфические структуры, как белки, то есть такие процессы, какие мы наблюдаем в биологии. Но если у вас их нет, то тогда у вас только один способ: вы должны держать настолько чистой среду, чтобы в этой среде у вас были только, скажем, левые изомеры, из которых вы строите. А правых было бы исчезающе мало, настолько мало, чтобы вероятность появления неправильного звена была бы очень маленькой. То есть вы специфичность функций заменяете специфичным состоянием среды.
А.Г. От чего – не легче.
В.А. От чего, конечно, не легче, но, может быть, всё-таки можно сделать это в химии? Посмотрим на все процессы спонтанного нарушения симметрии на уровне химии, то есть зададимся таким вопросом: а можем ли мы такую среду создать на уровне химической эволюции или на каких-то чуть более поздних стадиях эволюции? И выясняется, что нет. Даже механизм спонтанного нарушения симметрии (который приводит к асимметрическому состоянию) требует столь специфичного распознавания левых и правых молекул для создания очень сильной асимметрии, которое возможно только на биологическом уровне.