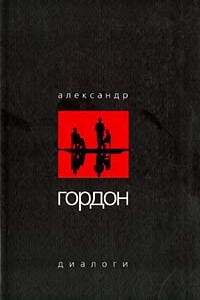Диалоги (ноябрь 2003 г.) | страница 63
В.Б. Идея закона, это…
В.А. Дело в том, что вся европейская наука – это по существу своему, хотя она была в конфликте, конечно, с христианским мировоззрением, но этот конфликт не следует преувеличивать. Если бы не было христианства, как мировоззрения, определенной культуры, если угодно, то вряд ли бы существовала наука в том понимании, в котором мы сейчас ее имеем. Не случайно наука появилась именно в Европе, именно в то определенное время. Это уникальное явление, уникальный культурный феномен, и было бы ошибочно полагать, что она могла появиться, где угодно и когда угодно при определенном, как говорят марксисты, говорили тогда, уровне развития производительных сил общества. Это неверно, потому что, например, наука не появилась в этом смысле в Китае, в Индии, хотя там была высоко развитая культура и всё остальное прочее. Над этим стоило бы задуматься, потому что сейчас вот мы имеем дело не только с феноменом, так сказать, бурного роста научного знания, но и одновременно…
В.Б. Диссипацией…
В.А. Да, с качественным преобразованием самой науки в нечто иное, и, возможно, нам следовало бы задуматься, особенно у нас, в России, над феноменом исчезновения науки. Мы до сих пор не очень хорошо понимаем ту тайну, которая связана с самим становлением науки как особого культурного феномена. У нас нет логически ответственного, самосогласованного метанаучного объяснения появления самой науки. То есть, можно, конечно, предложить много и философских, и культурологических, и разного прочего рода гипотез по поводу возникновения науки, так или иначе отвечающих на вопрос: почему именно в Европе в определенное время за эти 500 лет появился такой удивительный феномен, называемый наукой. В принципе, можно было бы мыслить развитие культуры и цивилизации без науки. Мысленный эксперимент такого рода можно придумать, я сейчас просто не имею возможности и времени представлять эти мысленные эксперименты, но опыт других стран говорит о том, что это вполне возможно.
В.Б. Не было бы крестовых походов, не было бы, так сказать, обратной трансляции эллинского знания научного в Европу через арабов. И кто знает, что бы вообще произошло. Благополучно арабское возрождение завершилось, и Европа не получила бы того импульса, который, собственно, и создал науку …
А.Г. То есть эллины были бы забыты?
В.Б. Да, были бы забыты окончательно.
В.А. Я хочу просто сказать, что, в принципе, у нас нет удовлетворительного объяснения генезиса феномена новоевропейской науки; «науки быстрых открытий», как назвал ее Рэндалл Коллинз в своем фундаментальном труде «Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения», недавно изданном на русском языке. Возник некий синергетический, самоорганизующийся процесс, в который оказались вовлеченными сначала сотни, потом тысячи, а со второй половины 20-ого столетия и миллионы людей, так или иначе занятых в производстве все новых и новых знаний, их распространении, приложении и потреблении для нового производства. Это нелинейный (вообще говоря, кольцевой) автопоэтический коммуникативный процесс, который, в принципе, обладает свойством самовозобновления, самоподдержания. Он связан, конечно, с образованием, культурой и так далее, но нет оснований думать, что этот процесс будет продолжаться и далее так же стремительно. Более того, есть основания думать, что, наверное, для человечества и нет необходимости в таком, наверное, продолжении.