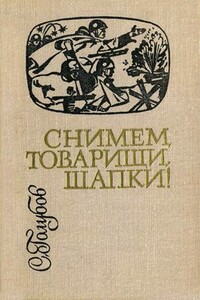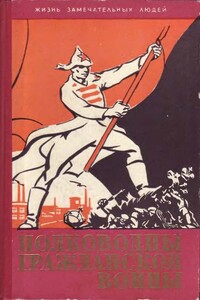Когда крепости не сдаются | страница 71
— Спас? — переспросил Наркевич. — Офицера? Лабунского?
— Молодец солдат!..
«Лабунский, Лабунский… — мысленно повторял Наркевич, — Лабунский… Кто же это Лабунский?..» И вдруг — вспомнил. Года четыре назад, когда Наркевич еще учился в реальном училище, а отец его, инженер Путиловского завода, читал лекции в Петербургском электротехническом институте, случилось в этом учебном заведении происшествие, о котором отец рассказывал с величайшим возмущением: студент второго курса Лабунский растратил деньги земляческой кассы и был исключен из института. Да, да, несомненно, фамилия его была — Лабунский.
Но, вспомнив, Наркевич тут же и забыл об этом. Мало ли Лабунских на свете…
— Мне еще в Бресте думалось, — сказал он, — что Елочкин из таких солдат, за которыми дело не станет…
Через минуту Карбышев хлопотал у паровичка с платформами, а Наркевич чинил станционный телефонный аппарат. Но от их короткого разговора осталось нечто такое длинное, о чем ни тот, ни другой не помышляли…
Вылазок не было. Крепостная артиллерия обстреливала русские траншеи тяжелыми снарядами. В ночь на тринадцатое марта австрийцы были выбиты из передовой позиции у деревни Малковице, и в двух верстах от фортового пояса заложена с севера первая параллель. При каждой такой атаке солдаты славяне сдавались в плен целыми толпами, словно не замечая, как их расстреливают со спины. Гарнизон неукоснительно усиливал огонь. На каких-то штабных счетах было подсчитано: тысяча тяжелых бомб ежедневно. Вот с крепостного форта вырвался огромный снаряд двенадцатидюймового орудия. Свистя, с воем рассекая воздух, он несется через деревни… Вот он донесся. Черный удушливый дым ударил в глаза, и глаза заслезились. Ударил в нос, и целые взводы зачихали. Они чихали час или два, пока у людей не разболелись головы.
— Сила божья…
— Путай бога, дурак!
Во временную батарею ударило шесть таких снарядов. Они разрушили ее траверзы, козырьки, вывели три орудия, задавили стрельбу, разбросали прислугу, и все это за какие-нибудь пятнадцать минут. Весь день восемнадцатого марта крепость вела ураганный огонь, и только к вечеру канонада начала стихать. Но чуть ли не самым последним чемоданом в соседней с Заусайловым роте все-таки завалило землей и похоронило целое отделение… Вскоре к окопам потянулись из тылов походные кухни. Почти уже смерклось, когда они добрались до назначения, — генерал Селиванов требовал, чтобы обед доходил до солдат в горячем виде, — и сейчас же началась раздача. Заиграли австрийские прожекторы. Заусайлов давно пригляделся к их игре. Все яркое кажется под лучом прожектора близким и рельефным. А темные предметы — деревья, кусты, свежевскопанная земля — представляются гораздо более отдаленными, чем на самом деле. Желтое светлеет, светлое желтеет. Серые солдатские шинели почти не видны, а защитные гимнастерки бросаются в глаза. Заусайлов с интересом наблюдал эту причудливую смену неверных освещений. Особенно неправдоподобно выглядела узкоколейка. Если бы не знать, что на маленьких, словно игрушечных, платформах катятся за линию окопов мешки с мукой и тюки прессованного сена, можно было бы представить себе все, что угодно, а всего проще — разноцветные переливы чешуи на теле стремительно несущегося вперед дракона, — театральная фантасмагория сказочной красоты. Вдруг между Заусайловым и узкоколейкой на невидимом под солдатской шинелью туловище возникло круглое, яркое, белое, кажущееся близким-близким человеческое лицо.