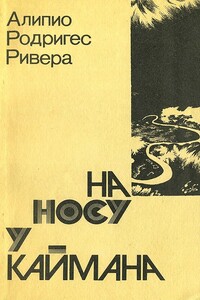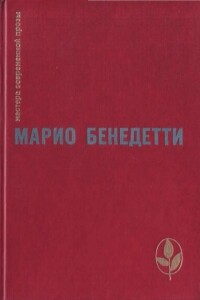Брысь, крокодил! | страница 34
— Алеша! — бабушкин вопль. — Шурик! Вы не знаете, где Сережа?
Откуда им знать? Вон — один таракан знает. Юркнет сейчас под плинтус, выбежит перед бабушкой, только рот раскроет, а она его тапком — хрусь!
В тот раз Вика умирала по-особенному печально: металась, стонала, гнула тонкую шею, словно могла спрятать голову под крыло. Боясь, как бы халабуда не развалилась, Сережа стоял на коленях и поддерживал потолок. Длинный луч света бил в капельки ее пота, и они драгоценно переливались. И тут внутрь заглянула тетя Женя: «Святый боже!» А вечером она подкараулила возле палисадника маму: «Вин, гарный хлопчик, сыдыть. А вона разляглася. Та хиба ж вона йому пара?»
«Это правда?» — спросила мама. Он кивнул. «Никаких халабуд! Играть только под окном!» — «Почему?» — «Ты хочешь, чтобы я обо всем написала папе?» Он закричал на всякий случай: «Не надо папе!» — и хотел прижаться к ней, но мама отгородилась пустой алюминиевой лейкой: «Значит, ты все уже понимаешь! Господи-ты-боже-мой-как-же-рано!» — хотя уже начинало темнеть. И почти побежала к колонке. Рой комаров, точно хвост за кометой, ринулся за нею следом, догнал, окружил и заходил ходуном, рябя в бледном небе. Это необычное природное явление в Полтаве наблюдалось каждый вечер: на дворе ночь уже, а в небе наоборот — почти утро.
И халабуду разобрали — тети Женин муж, мама и Олег, которому, оказалось, все равно кому помогать — только бы заглядывать в глаза и услужливо мычать.
Часы на стене показывают без десяти полдень. Или полночь. Но и то и другое — вранье. Мы: Сережа, Леха, Шурик — вранье. Мы: бабушка и я — чушь. «Потому что у этой Дианки подцепить можно что угодно!» — «А что, например?» — «В лучшем случае клопа или таракана!» — «А в худшем?» — «Тебе мало клопа с тараканом? Поклянись моим здоровьем, что никогда ни под каким видом…» Вот.
Вот: мы — это я и Вика. Как же он забыл! В самый день отъезда — мама все время банки с вареньем местами меняла, чтобы хоть одну сумку можно было от пола оторвать — Вика без слов увела его за руку по тихим половикам и с другого хода, под деревянной лестницей, по которой одни только коты и кошки ходили к себе на чердак, вдруг чиркнула себя лезвием по подушечке пальца: «Пий!» — будто еще один Викин глаз, большая черная капля бухла и бухла перед ним, не моргая.
«Пий скориш!» — «Зачем?» — «Пий!»
Он зажмурился, лизнул. Вкус собственной своей разбитой губы унес в зиму, на ледяную гору, в драку с Еремеем на лыжных палках. Губу потом зашивали, и долго-долго леска из нее торчала — как котовый ус. Но ведь сейчас это была ее кровь. И на вкус она не должна была быть похожей. Была! Он хотел ей сказать: значит, мы с тобой одной крови, как в романе про Маугли, но не успел, потому что Вика ужалила вдруг лезвием и его палец, впилась, как на анализе, с птичьим причмоком (или это ласточка в гнезде под потолком в тот миг сказала что-то трем своим маленьким детям?) — и наконец оторвалась: «Усэ! Тепер — назавжды! Тепер на всэ життя!» И тут все смешалось: жалость — от вкуса губы расквашенной, и страх этой клятвы не сдержать, и испуг никогда не увидеть ее больше, и новый испуг — заразиться чужой кровью: ведь из-за чего же именно бабушка на нужнейшую операцию лечь боялась! — и еще больший испуг — в этом испуге признаться… Изо всех сил стараясь не сглотнуть, он буркнул: «Ага, назавжды», — и выскочил вон, за дом, за погреб, в самую гущу бурьяна, чтобы выплюнуть то святое, что — навсегда, что — мы. И пока выплевывал, разминал среди пальцев бурьянные семена, а потом еще долго стоял и смотрел, как они раскрошились на мелкие шарики и приятно, как ртуть, бегали по ладони.