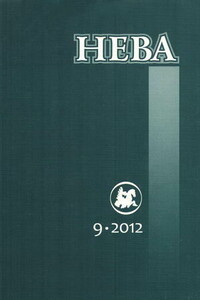Брысь, крокодил! | страница 17
— Не знаю. Вижу. Находит на меня опять. И все кажется, что я виновата перед ней.
— Ты? Перед ней? Глупости какие.
— Ведьма я все же. И уж такое про нее примерещится вдруг.
— Какое? Нет, ты скажи: какое?
— Я — тебе. Ты — Коле. А он меня обратно упечет! — И чугунок — на пол, и от сажи сумрачными ладошками — его за рукав. — А они там дерутся. Знаешь, как больно?
— Шизики?
— Санитары! Шизики тихие. Коленька опять вчера приходил — сдать грозился, если пропаганду религиозную не прекращу. А я — что? Они же сами с младенчиками идут.
— А я тогда тоже какой-нибудь крендель выкину, и меня к тебе посадят.
— Ой, накличешь!
— Руки белой рубахой свяжут. И станем мы с тобой день до вечера, будто по облаку, туда-сюда похаживать — как в раю. И одна у нас будет забота — радоваться друг на друга.
— Они там дерутся.
— Да… А я и позабыл. Таюшка — ну? Отпусти руку.
— Днем еще ничего. А ночью при лампочке сплю. Видения — они ночью находят.
— Тихо, тихо, мне больно ведь. Руку-то отпусти.
— А ты с собою меня возьми!
— Заметят, Таюшка. Потерпи. Недолго, может, осталось. Может, только до зимы.
— Нет! Нет.
— Близко же до зимы.
— Я тебя еще девушкой привидела. Я тебя всю жизнь ждала.
— Я знаю. А теперь, может, чуть осталось.
— Нет, нет, нет!
Ну никакой возможности не было угомонить ее словами. Только жалейку вынуть и, будто крысу из всем известной сказки, околдовать, увести прочь — от вредоносности собственной души.
Не сразу, мотив за мотивом — главное было с умом мелодии подобрать: чтоб новая выходила еще заунывней прежней, — глаза ее делались голубиными, остекленелыми. Обычно после попурри из турецких народных песен А.И. наконец вставал, виновато подмигивая всем мясистым лицом, кланялся и на цыпочках шел к двери. Тихонько приоткрыв ее, оборачивался: Таисья оцепенело сидела на лежанке, прижав к груди высокие колени и чему-то бессмысленно кивая.
— Таюшка, я пошел?
И новый ее размеренный кивок вроде как наполнялся смыслом.
В непроглядных сенях знакомо пробиваясь сквозь перепутанность испарений кислой капусты, японского гриба, прелого картофеля и яблочной падалицы, и еще во дворе под фырканье свинки, из удушливого хлева подкоп организующей, А.И. воображал, как радостно кинувшаяся к нему мамаша все эти запахи моментально учует, и сажу на рукаве приметит, и заревнует, и зарычит — тут он и расхрабрится, тут он и выкажет всю свою насчет Таюшки решимость! Но уже с улицы перегнувшись через калитку и обратно шпингалет всовывая, он понимал, что всеобщее, троекратное, так сказать, счастье требует все-таки некоторой отсрочки. Однако и сейчас, находясь всего только в его предвкушении, будто нота в сумрачном жерле свирельки, еще не выдохнутая, выдоха и полета дожидающаяся, Альберт Иванович, стряхнув сажу с рукава и усевшись на свой велосипед, доверчиво улыбался шелестящему синей листвой переулку.