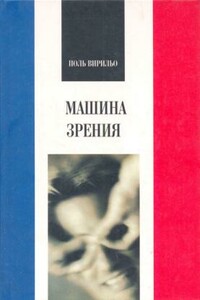Информационная бомба | страница 60
Гигантские морские поверхности Атлантического и Тихого океанов не принимаются сегодня всерьез из-за возможности передвижения в атмосфере с высочайшей скоростью, и в этом путешествии место моряка занял астронавт; каждый раз, когда мы достигаем все большей скорости, нами дискредитируется ценность действия, мы отчуждаем нашу способность действия (agir) в пользу способности к противодействию (reagir) (другое, менее захватывающее, название для того, что сейчас зовется «взаимодействием» (interaction)).
Но все это не идет ни в какое сравнение со скорым введением «автоматизированной обработки знаний» — распространением всеобщей амнезии, последнего достижения «индустрии забвения», замещающей совокупность аналоговой информации (образной, звуковой и т. д.) цифровой информацией, компьютерным кодом, пришедшим на смену языку «слов и вещей».
Итак, цифры готовы установить царство своего математического всемогущества, цифровые операции определенно вытеснят analogon, то есть любую схожесть, любое отношение подобия между несколькими живыми существами и предметами.
Все это ведет, понятное дело, к отрицанию какой-либо феноменологии. Теперь надо не «спасать феномены», как того требует философия, а прятать их, оставлять вне расчета, скорость которого не оставляет места какой бы то ни было осмысленной деятельности.
В этом контексте кризис современного искусства представляется всего лишь клиническим симптомом кризиса самой современности — одним из многих предвестников начинающегося распада темпоральности.
В конце XX века искусство не обращается к прошлому и не пытается предвидеть будущее, оно становится излюбленным способом изображения настоящего и одновременного (simultaneite). Столкнувшись с индустрией телеприсутствия и live передачами, современное искусство, «искусство присутствия», перестало воспроизводить мир для того, чтобы выявить его «сущность». Сначала в современной абстрактной живописи европейские художники первых послевоенных лет отказались от какой-либо фигуративности, а затем впали в другую крайность в американском гиперреализме, не говоря уж о движущихся компьютерных образах видео-арта с его делокализован-ными инсталляциями и «искусстве движущихся картинок», с XIX века представленном кинематографом. Вернемся, однако, к самому телу, его действительному присутствию в театре и современном танце в эпоху становления виртуальной реальности. Интересно, что здесь проблема времени стала актуальной темой и породила новые формы театрального представления.