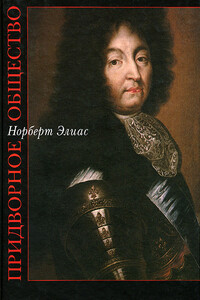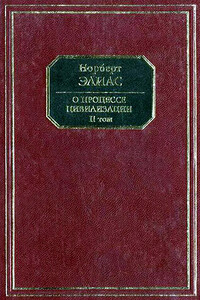Европейский фашизм в сравнении 1922-1982 | страница 40
Если отвлечься от сопротивления немногочисленных церковных и военных кругов, а также отдельных лиц, то можно прийти к выводу, что церкви и вермахт хотя и не были полностью унифицированы, все же были настолько приспособлены к режиму или сами к нему приспособились, что, по существу, не представляли никакой опасности для внутреннего состояния «третьего рейха». Они были скорее союзники, чем конкуренты, а тем более противники национал-социализма. Поэтому многое говорит в пользу тезиса, выдвинутого отнюдь не только национал-социалистскими пропагандистами, по которому в «третьем рейхе» была монолитно сплоченная диктатура фюрера, способная исключить или унифицировать все враждебные и конкурирующие силы. «Государство Гитлера» было также гораздо более тоталитарным, чем фашистское «stato totalitario» в Италии, но и оно имело определенные черты «поликратии» [Многовластия.– Прим. перев.].
Между отдельными группами и лицами в партии, промышленности, вермахте и бюрократии постоянно происходили конфликты по поводу компетенции. Даже на региональном и местном уровне члены партии боролись за власть и влияние друг с другом и с государственными чиновниками. Хотя важно учитывать эти постоянные конфликты, которые здесь не могут быть описаны подробно, однако следует предостеречь от переоценки этих поликратических черт «третьего рейха». Упомянем лишь, что авторитарная власть Гитлера и его компетенция принимать решения не ограничивалась, а только усиливалась этими пререканиями по поводу компетенции, поскольку Гитлер с самого начала умел противопоставлять друг другу, в духе политики divide et impera [Разделяй и властвуй (лат.).– Прим. перев.], эти враждующие группы и личности внутри национал-социалистского синдиката власти. Прибавим – и это обстоятельство надо непременно учитывать,– что масштабы и характер национал-социалистского террора никоим образом не ограничивались и не смягчались этими бесспорно поликратическими чертами. Споры о компетенции не мешали установлению и эффективности национал-социалистской системы террора и не задерживали ее развития, поскольку у групп и отдельных лиц, боровшихся за власть и влияние, не было никаких принципиальных расхождений в отношении преследования политических противников и меньшинств. Чтобы понять это обстоятельство, надо хотя бы вкратце рассмотреть развитие и функционирование национал-социалистской системы террора[22].
В течение 1933 года уже описанный «дикий» террор СА и СС, большей частью «оправдываемый» ссылкой на «распоряжение по поводу поджога рейхстага» от 28 февраля 1933 года, постепенно сдерживался, так как руководящие национал-социалисты опасались, что не смогут удержать его под контролем. Его заменил бюрократически контролируемый и санкционированный государством террор гестапо, возникшего из подразделения 1А Берлинского полицейского управления. 30 ноября 1933 года служащие этого учреждения, еще называвшегося тогда «Прусским ведомством тайной государственной полиции», получили далеко идущие полномочия. Их мероприятия нельзя было ни обжаловать, ни преследовать в судебном порядке. При этом гестапо, возглавляемое Герингом, столкнулось с сильным конкурентом внутри партии. Это был Генрих Гиммлер, к весне 1934 года соединивший под своей властью политическую полицию всех земель, кроме Пруссии. Хотя Геринг вовсе не симпатизировал возвышению Гиммлера с его СС, он больше всего опасался СА под командой Рема. Поэтому 20 апреля 1934 года он заключил с Гиммлером нечто вроде соглашения, по которому тот в качестве заместителя прусского премьер-министра (то есть Геринга) становился инспектором прусского гестапо, которое объединялось с политической полицией остальных земель и расширялось, превратившись в общегерманское гестапо.