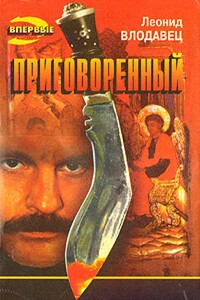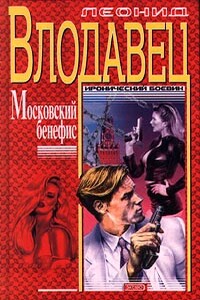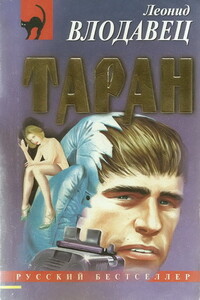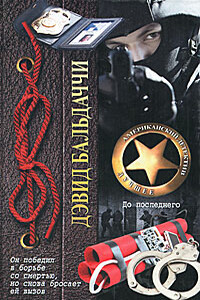Атлантическая премьера | страница 37
Задохнуться я не задохнулся, но принужден был долгое время нюхать нафталин и запах прелого меха. Я слышал гомон толпы, шум города, скрип снега под ногами той, что куда-то меня тащила, ее сопящее дыхание. Мои нос и щеки согрелись, зато откуда-то снизу, от ног, ощущались холод и сырость. Потом во
всех этих ощущениях настал перерыв. На какое-то время я погрузился во тьму.
Когда тьма рассеялась, я увидел много — не меньше десятка! — галдящих людей и закашлялся от едкого табачного дыма. То, что этот дым был табачным, а не каким-то иным, понимал тридцатипятилетний Ричард Браун. Тот младенец, которым я был во сне, этого знать еще не мог. Тем не менее, я смотрел на мир его глазами. Я был младенцем!
Люди, толпившиеся вокруг стола, под тусклой лампой без абажура, говорили громко, хохотали и курили, обдавая меня дымом. А я лежал перед ними, распеленутый, голенький, дрыгал ножками и хныкал. По большей части это были женщины, смуглые, в черных косынках с яркими цветами на головах, с огромными серьгами в ушах, бусами и ожерельями из металлических бляшек на шеях. На плечах у них были серые пуховые платки. Все это опять-таки определил капрал Браун, а младенец только таращился на непривычные предметы и повизгивал от страха.
Женщины расступились, и к столу подошел тучный чернобородый мужчина в черном пальто и широкополой шляпе. На его руке сиял огромный золотой перстень-печатка с выпуклым изображением швейцарского креста или знака «+» — этого определить точно даже взрослый Браун не мог. Он прикоснулся перстнем к моему лбу и сказал что-то непонятное. А потом захохотал и сделал «козу», то есть сунул мне — младенцу — два пальца под нос и сказал что-то вроде «утю-тю-тю-тю!».
Я боялся их всех. Потому что они курили трубки, словно индианки, — это сравнение нормального Брауна, разумеется! Потому что гоготали и говорили на непонятном языке, которого и взрослый Браун никогда не слышал. Именно на этом языке мужчина, видимо, он был вождем, отдал распоряжение, после которого меня стали запеленывать. Но это были уже не мои пеленки! Я почуял разницу кожей и, будь у меня возможность говорить, заорал бы: «Вы мошенница, мэм! У меня были отличные, теплые и сухие байковые пеленки, а вы заменили их какой-то сырой дерюгой, которую сто лет не сушили и не гладили утюгом! Немедленно возвратите мне мои личные вещи или я позову полицию!» Увы, если содержание воплей, которые издавал младенец, было примерно таким, то гнусные похитительницы пеленок их не понимали. Они сунули мне в рот какую-то кислую, уже обслюнявленную кем-то пустышку и заставили меня в буквальном смысле заткнуться. В довершение всего они лишили меня нежного теплого ватного одеяльца из голубого атласа и замотали в какое-то тощее, грубое и колючее, не то из верблюжьей шерсти, не то из наждачной бумаги. Поверх него — уж лучше бы наоборот! — накрутили серый пуховый платок, пропахший нафталином и табаком. Затем меня туго стянули какой-то тряпкой или косынкой. Вновь мой носик уткнулся в колючий, шершавый мех воротника. Опять промелькнул сизый нос с царапиной. Я хлюпал пустышкой и молчал, но мне было очень страшно.