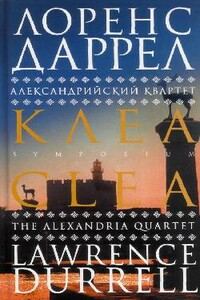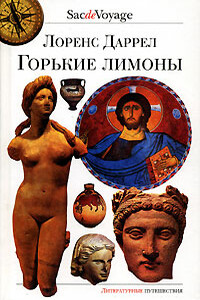Бальтазар | страница 5
Маленькая олеандровая беседка под платанами — мой рабочий кабинет. Уложив ребенка, я сижу здесь за моренным морем деревянным столом, сижу и жду гостя. Лампу я не зажигаю, пока пакетбот не пройдет. Это единственный день недели, знакомый мне по имени, — четверг. Звучит глупо, но здесь, на острове, лишенный какого бы то ни было разнообразия, я жду его еженедельного визита, как школьник пикника. Я знаю, что пароходик развозит почту и ждать ее мне предстоит еще двадцать четыре часа. Но я никогда не расстаюсь с ним без сожаления. А когда он исчезает из виду, я зажигаю со вздохом парафиновую лампу и возвращаюсь к своим бумагам. Я пишу так медленно, так трудно. Персуорден как-то сказал мне, рассуждая о писательском ремесле, что ощущение тяжести, которое неизбежно сопутствует процессу сочинительства, обязано своим существованием исключительно страху сойти с ума; «нажми еще немного и скажи себе: а мне плевать , сойду я с ума или нет, и увидишь, дело пойдет куда быстрее и проще, ты перепрыгнешь через барьер». (Я не знаю, насколько это соответствует действительности. Но деньги, оставленные им по завещанию, сослужили мне хорошую службу, и до сих пор между мной и демонами долгов и работы все еще стоят несколько фунтов.)
Я вдаюсь в подробности моего еженедельного развлечения по одной простой причине; ибо в такой именно июньский вечер произошло явление Бальтазара: он вынырнул вдруг из небытия, чем до крайности меня поразил — хотел написать «оглушил» — здесь ведь не с кем говорить, — но все же «поразил меня». В тот вечер случилось нечто вроде чуда. Маленький пароходик, вместо того чтобы исчезнуть, как обычно, из виду, резко развернулся под углом 150 градусов, вошел в бухту, остановился и повис во тьме, закутавшись в мохнатый кокон электрического света; обронив в середину золотой, им же сделанной лужи длинную медленную змейку якорной цепи, в своей символической значимости подобную поиску истины. Впечатляющее зрелище для островитянина вроде меня, запертого в одиночную камеру духа, как, впрочем, и любой другой писатель, — я и в самом деле стал похож на парусник в бутылке, плывущий на всех парусах в никуда, — и я смотрел во все глаза, как смотрел, наверное, индеец на первое судно белых людей, бросившее якорь у берегов Нового Света.
Темнота, молчание были нарушены неровным плеском весел; а затем, целую вечность спустя, цокнули по деревянным сходням подошвы городских туфель. Хриплый голос отдал команду. Я зажег лампу и принялся регулировать фитиль, чтобы заглушить властный голос вторгшегося в неизменность хаоса, и тут вдруг среди толстых миртовых ветвей проявилось из тьмы резкое смуглое лицо, лицо друга, — словно явился некий козлоподобный посланец загробного мира. Мы оба затаили дыхание и некоторое время молча глядели друг на друга в желтоватом тусклом свете: черные ассирийские завитки волос, Панова бородка. «Нет — я настоящий!» — сказал Бальтазар, хохотнув, и мы обнялись — яростно. Бальтазар!