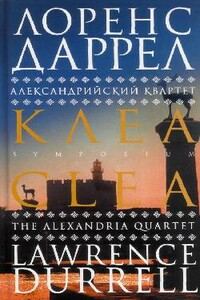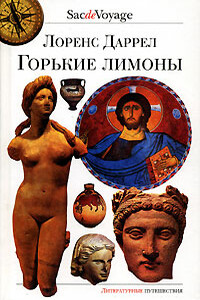Бальтазар | страница 27
«Прошу тебя, Бальтазар».
«Я не стал бы затевать этого разговора, если бы не понял, что он по-настоящему страдает — не из-за возможной огласки: кому какое дело до сплетен? Он просто не хочет, чтобы тебе было больно».
Тихо, почти беззвучно, словно голос ее попал в гигантские шестеренки неведомой машины и сжат, стиснут, раздавлен там до сотой доли прежнего объема, Клеа отвечает:
«Я не была наедине с Жюстин уже целый год. Понимаешь? Все кончилось, как только я перестала писать портрет. Если ты хочешь, чтобы мы остались друзьями, больше никогда не говори со мной на эту тему» — и улыбается несмело, словно через силу, ибо в тот же самый миг к ним подходит, шелестя парусами, Жюстин, и улыбка ее лучится весельем и счастьем. (Кто сказал, что невозможно любить человека, которому ты причиняешь более всех боли?) Она проходит мимо, поворачивает в мягком свете свечей — ложится на крыло большая морская птица — и наконец идет туда, где стою я. «Я не смогу приехать сегодня, — шепчет она. — Нессим хочет, чтобы я осталась дома». Даже сейчас я помню, какой непостижимой тяжестью легли мне на плечи разочарование и растерянность. «Но ты обещала», — мямлю я. Знать бы мне тогда, что десятью минутами раньше она сказала Нессиму, который терпеть не может бриджа: «Дорогой, можно я поеду и составлю Червони компанию на партию в бридж, — тебе очень нужна машина?» Должно быть, это был один из тех немногих вечеров, когда Персуорден снизошел до встречи с ней в пустыне за Городом — и она была уже в пути, как лунатик, как стрела, пущенная в цель. Почему? Почему?
Бальтазар произносит в ту же самую минуту: «Твой отец сказал мне: „Я не могу на все это спокойно смотреть, и я не знаю, что мне делать. Такое чувство, словно следишь за маленьким ребенком, как он играет возле мощного станка, работающего, неогражденного“». На глазах у Клеа выступают слезы и высыхают медленно, пока она подносит к губам бокал. «Хватит об этом», — говорит она и разворачивается спиной к разговору и к Бальтазару, одним движением. И ее чуть припухшие губы уже катают, как камушки, пустые незначащие фразы, адресованные графу Банубуле, — а тот раскачивается и отдает поклоны с галантностью Скобиного попугая, приседающего на жердочке. Ей нравится видеть, что ее красота производит на него непосредственное, ясно видимое впечатление, — подобная дождю золотых стрел. Мимо еще раз проходит Жюстин и ловит на ходу запястье Клеа. «Ну как?» — говорит Клеа тоном человека, справляющегося о здоровье больного ребенка. По лицу Жюстин пробегает тень гримаски, и она драматически шепчет: «Ах, Клеа, ужас, просто ужас. Такая страшная ошибка. Нессим великолепен — но мне не следовало этого делать.