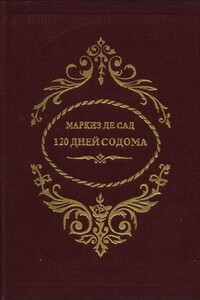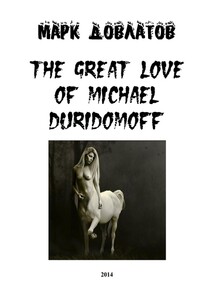Жюльетта. Том II | страница 141
Властителю Романьи доложили, что город Падуя восстал против него, тогда он заковал в цепи одиннадцать тысяч строптивых горожан и на общественной площади предал их самой мучительной смерти.
Одна из многих жен короля Ахема3 вскрикнула во сне и разбудила остальных; в гареме началась суматоха, монарх захотел узнать причину шума, но никто не мог дать удовлетворительного ответа, тогда он велел пытать все три тысячи женщин; он подверг их мучительным испытаниям и снова не получил ответа; после этого им отрубили обе руки и обе ноги и бросили тела в пруд. Подобная жестокость, несомненно, высекает яркие искры похоти в душе тех, кто этим занимается[63].
Одним словом, убийство есть страсть, такая же страсть, как карточная игра, вино, мальчики и женщины, и когда она превращается в привычку, обойтись без нее уже невозможно[64].
Ничто не возбуждает нас так, как она, ничто не сулит столько наслаждений, и никогда она не надоедает; препятствия только придают ей дополнительный аромат, а вкус к ней доходит до фанатизма. Вы хорошо знаете, Жюльетта, каким чудесным образом жестокость сочетается с распутством и какой терпкий привкус она придает ему. Она оказывает мощное воздействие на разум и на тело одновременно, она воспламеняет все чувства, возносит душу в небеса. Она производит смятение в нервной системе, более сильное, нежели любой другой сладострастный предмет, мы наслаждаемся ею неистово и безгранично, и наслаждение это переходит в экстаз. Мысль о ней щекочет наше воображение, ее свершение электризует нас, воспоминание о ней вдохновляет, и мы постоянно испытываем огромное, всепоглощающее желание повторить ее. Чем больше мы знаем будущую жертву, тем больший интерес она в нас вызывает, чем ближе она нам, чем священнее узы, соединяющие нас, тем сильнее наше искушение уничтожить ее. Здесь появляется утонченность, как это случается со всеми удовольствиями; если здесь присутствует личный момент, исчезают все границы, жестокость возводится в самую высокую степень, ибо чувство, вызываемое ею, возрастает по мере того, как пытка становится более изощренной, и с этого момента все, что вы ни творите, меркнет по сравнению с тем, что рождает ваше воображение. Теперь предсмертная агония должна быть медленной, долгой и ужасной, чтобы вся душа была потрясена ею, и мы хотим, чтобы жертва имела тысячу жизней, чтобы мы испытали тысячекратное удовольствие, убивая ее.
Каждое убийство есть восхождение на более высокую ступень, каждое требует усовершенствования в следующем; очень скоро обнаруживается, что убивать — недостаточно, что надо убивать так, чтобы кровь застывала в жилах; кстати, хотя мы и не осознаем это, непристойность почти всегда приводит к такому ощущению.