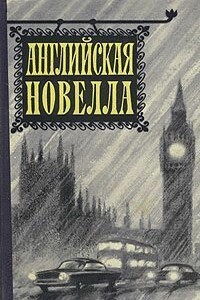Гений искусства | страница 5
Когда я завернул к себе во двор, мне подумалось, что гром сейчас ударит мне прямо под ноги и все разворотит. Казалось, каждый кирпич, каждый камень во дворе на свой особый голос отзывается на гром. Водосточные трубы переполнились, и дождь хлестал потоками прямо с крыш, как с горных вершин.
Я не раз просил миссис Паркинс, мою служанку, жену привратника Паркинса, который незадолго до того умер от водянки, — ставить свечу из моей спальни и коробок со спичками под фонарем на лестничной площадке у дверей в мою квартиру, чтобы я мог зажечь там свою свечу, как бы поздно ни пришел домой. Но так как миссис Паркинс неизменно пренебрегала всеми моими указаниями, свечи и спичек никогда не бывало на месте. Так случилось, что и на этот раз я, чтоб зажечь свечу, должен был пробраться ощупью к себе в гостиную, разыскать ее там и выйти опять на лестницу.
Как же я был потрясен, когда увидел под фонарем на площадке сверкающее влагой, точно оно так и не обсохло с последней нашей встречи, то таинственное существо, с которым я столкнулся на пароходе в грозу два года назад! В моем уме пронеслось его предсказание, и у меня подкосились ноги.
— Я сказал, что сделаю так, — проговорил он, — и я так и сделал. Разрешите войти?
— Несчастный, что вы натворили? — отозвался я.
— Я все вам объясню, — был ответ, — когда вы меня впустите.
Что он совершил — неужели убийство? И с таким успехом, что хочет совершить второе, наметив жертвой меня?
Я колебался.
— Разрешите войти?
Собрав все свое мужество, я кивнул головой, и он проследовал за мною в комнаты. Здесь я разглядел, что нижняя часть его лица повязана синим в белую клетку платком. Он медленно снял его и выставил на вид длинную бороду и усы, которые вились над его верхней губой, курчавились в углах его рта и свисали на грудь.
— Что это значит? — невольно закричал я. — И кто вы теперь?
— Я — Гений искусства! — сказал он.
Эти слова, которые он медленно проговорил под громовой раскат в полуночный час, произвели разительное действие. Я молча смотрел на него, ни жив ни мертв.
— Вошел в силу немецкий вкус, — сказал он, — и мне хоть с голоду помирать. Вот я и подладился под новый вкус.
Он слегка встрепал бороду, скрестил руки на груди и сказал:
— Суровость!
Я содрогнулся. Вид его был и впрямь суров.
Он дал бороде волнисто стечь на грудь и, сложив руки на метелке для ковров, которую миссис Паркинс оставила у меня среди книг, сказал:
— Благоволение.
Я стоял пораженный. Перемена душевного строя зависела целиком от бороды. Человек мог ничего не менять в своем лице, мог и вовсе не иметь лица. Все делала борода.