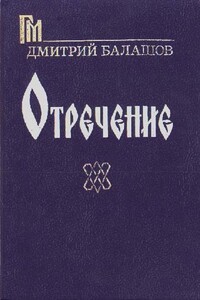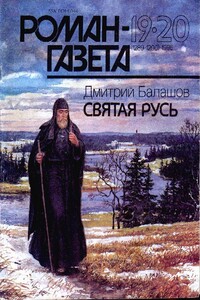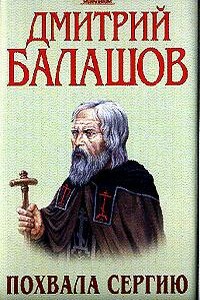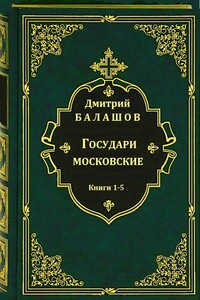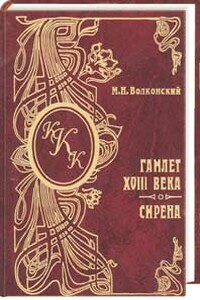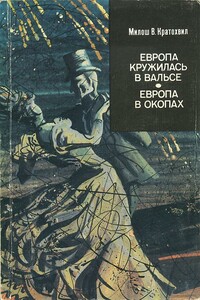Святая Русь. Книга 2 | страница 44
— Голову нагни, кметь!
Парус, тяжело хлопнув и качнувши палубу, перелетел на другую сторону судна. Нижняя райна прошла у него над самою головой.
— Спасибо, княже! — произнес, покраснев, Иван. Все пошло совсем не то и не так, как мечталось.
— Первый раз? — вопросил княжич с беглою улыбкой мальчишечьего превосходства. Его, видно, позабавили смущение и растерянность незнакомого молодого московского воина.
— На Волге — первый! — возразил Иван и быстро, чтобы не показаться совсем уж серым недотепою перед отроком-княжичем, добавил: — У меня батя покойный много ездил! С покойным Алексием был в Киеве, спасал владыку… — сказал — и поперхнулся Иван. Не знал, дале говорить али дождать вопрошания?
— Как звали-то батю? — повелительно, ведая, что ему отмолвит готовно (и не только готовно, но и с радостью) всякий и всегда, вопросил княжич.
— Никита Федоров! — сникая, отмолвил Иван. Почудило — облило горячим страхом: а не ведает ли княжич о том, давнем, убийстве Хвоста?
Василий подумал, сдвигая русые, еще по-детски светлые бровки, видимо, пытался вспомнить.
— Батя еще Кремник рубил! — подсказал Иван торопливо. — Тот, старый! И дедушко наш тоже… — И, уже с отчаянием, сникая голосом, теряя нить разговора, домолвил: — А прадедушка наш, Федор Михалкич, грамоту на Переяслав князю Даниле привез… С того ся и прозываем Федоровы!
В глазах отрока-княжича мелькнул интерес. Все это было так далеко от него, при прадедах! И ничего он не ведал, ни о какой грамоте, батя, кажись, и не баял о том!
— Расскажи! — требовательно повелел он. И тут Иван едва не оплошал вторично.
— Ну, дак… — начал он, запинаясь, с ужасом понимая, как мало и он сам ведал о грамоте той. Но — слово за слово — к счастью, никто не торопил, не звал, начал сказывать.
Поскрипывали снасти, колыхалось судно, перла и перла стремнина волжской воды, и тянулись, медленно проходили мимо далекие зеленые берега. Пустыня! Редко мелькнут тесовые кровли недавно восстановленных хором. После татарских упорных погромов испуганные нижегородские русичи не рисковали, как прежде, вылезать на глядень, хоронились в лесах, по-за топями, на малых реках. И все-таки тутошняя жизнь упорно пробивалась сквозь все преграды, укреплялась и лезла, неодолимо превращая татарскую реку Итиль в русскую Волгу…
Быть может, как раз это зримое упорство местной жизни и помогло Ивану оправиться и найти верные слова, лишенные хвастовства (ведь не сам, не отец даже — дедушка отцов!), но и той избегнуть противной, унижающей и унизительной скороговорки, с которой торопятся иные перед властным лицом, боярином, князем ли, умалиться уже и до неуваженья к пращурам своим. (Противное свойство, выродившееся в последующее: «Мы ста сермяжные!»)