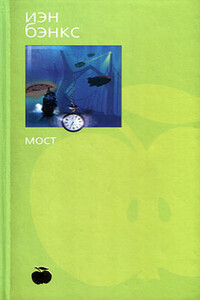Песнь камня | страница 96
Не думаю, что это мог бы сделать я; ностальгия, какой-то осадок семейного чувства, уважение к мастерству или постижение необратимости подобного разрушения остановили бы меня; но сейчас это осуществили другие, и отчего бы мне не пригубить этого великолепия и не восславить его? Кто еще это сделает? Кто еще заслужил? Не эти случайные разрушители, эти временные оккупанты; вряд ли они знают, что изрубленные в лоскуты картины, или брошенная в стену ваза, или книга, которую они метнули в ров, или стол, разбитый и сожженный в камине, — каждая вещь стоит больше, чем они заработают в мирное время или же в войну. Один я могу справедливо и с должной проницательностью оценить уничтоженное здесь. И разве эта материя, это изобилие вещей и произведений искусства не задолжали мне последнего равновесия наслаждения, последней ласки, хотя бы прощального признания их утерянной ценности?
Итак, утрачены. И вместе с ними исчезло столько всего, что притягивало нас, когда мы покидали замок несколько дней назад. Полагаю, теперь можно сдать эти стены необремененными. Теперь остается лишь ткань самой конструкции, и мне не хотелось бы делать ставки, на сколько сокровищница переживет то, что хранила когда-то. Лишь раковина, тело одно выстояло; коматозное, прозябающее, заброшенное живыми, и самообладание его вполне подавлено.
Но мы многое обрели с этой утратой. Мы на свободе, способны наконец бросить все это, уйти прочь и сердцем, и ногами.
Прохожу сквозь пустыню Длинного Зала, под ломкие аплодисменты битого стекла и металлическое одобрение рухнувших доспехов, упавших мечей и неопознанного железного мусора. Сквозь облака, что рвутся и разлетаются в небе, просачивается чуть-чуть лунного света. Я дергаю за отвисший лоскут на стене, стискивая зубы, когда пылкая горсть краски сыплется в ладонь. Ставлю обратно на постамент мраморную деву, а ее сломанную руку кладу рядом на книжную полку; рука сияет молочной белизной в серо-голубом свете, ярком и призрачном.
Нагнувшись, поднимаю маленькую статуэтку. Пастушка; приторная, но все же изысканно выполненная и очень красивая, насколько я помню. Она без головы и отломана от подставки. Сажусь на корточки в поисках других осколков. Нахожу головку в шляпке, стираю алебастровую пыль с ее нежных черт. Нос отбит, кончик ярко белеет сквозь тонкий румянец глазури. Голова непрочно сидит на хрупкой флейте шеи; я осторожно ставлю ее на полку возле мраморной руки, затем продолжаю путь сквозь разорение.