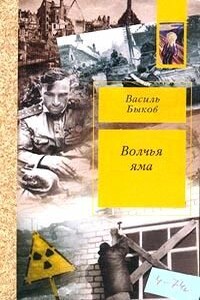Фронтовая страница | страница 30
– Шкурник ты! Жулик! С таким нутром тебя за сто километров к партии не подпустят.
Писарь выплюнул соломинку и всем телом повернулся к бойцу – в его глазах тлела ироническая улыбка.
– Ого! Как здорово! Даже чересчур. Только почему я жулик? И почему не подпустят? Эх ты, младенец! – вздохнул он с тихой притворной грустью. – Жизни не знаешь, молокосос.
– Если ты знаешь, то почему на собраниях говоришь не то? Тогда ты небось по газетке шпаришь. Там вон какой – гладенький, тихенький, все одобрял и поддерживал...
Тимошкин весь дрожал – и от стужи, и от ненависти к этому цинику.
– Поддерживал! – передразнил Блищинский. – Что я дурак, на рожон лезть? На собрании я говорю, что все говорят. Что замполит поручит. Я ведь солдат все-таки. Комсомолец и так далее. Да что тебе объяснять, разве ты поймешь?
– Что понимать? Все ясно!
Тимошкину казалось, что он больше, чем кто-либо, знал этого мерзавца, и в то же время понять его до конца было невозможно. Наверное, каждая его мозговая извилина имела свое отношение к миру, свое, отличное от людского, намерение, вся его натура состояла из расчета, фальши и хитрости. Тимошкин никогда не слышал, чтобы он перед кем-нибудь так выворачивал свое нутро; теперь же, неизвестно по какой причине (возможно, потому, что они попали в западню, из которой пока не было выхода), Блищинский разозлился и перестал скрывать свои взгляды на жизнь.
– Черта лысого ты понимаешь! Ты молокосос и недоучка, – говорил сержант. – Что у тебя за плечами? Девять классов. А я философию изучал, мудрость жизни. Мои родители – сам знаешь – мужики. Как жили? В темноте, в недостатке – работа до отупения, пустой суп, лапти. Но то время прошло, и я хочу жить лучше. Вырваться в люди. Пер августа ад аугуста – сквозь трудности к высотам, понимаешь? Я ведь никого не убиваю, не ворую, не граблю. Я сам по себе. Что тут удивительного? Теперь вот я говорю тебе это, потому что ты все же земляк, хоть и такой колючий. Опять-таки нас двое, свидетелей нет. А вон немцы. И я не боюсь. Да и сколько таких, как я. Только они не скажут. Они в себе живут и для себя. Думают одно, а говорят другое. Приспосабливаются. А ты что думал? Патриотизм? Героизм? Ха! Детский лепет.
Тимошкину вдруг захотелось ударить его и уйти к другим людям, таким, какие были в их расчете, – к Щербаку, Скварышеву, Кеклидзе... Даже Здобудька теперь показался ему простым и надежным дядькой. Но уйти было некуда. Сзади, впереди и по сторонам были немцы. Щербак пропал где-то в снежной ночи. Скварышев, Кеклидзе остались навеки в том узком окопе, на огневой позиции. И только он, этот шкурник, сидел в одном шаге от него и говорил отвратительные по своему цинизму слова. А Тимошкин вынужден был их слушать.