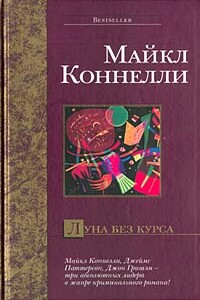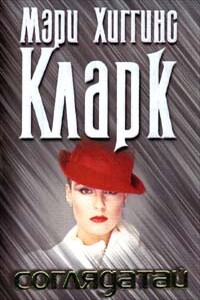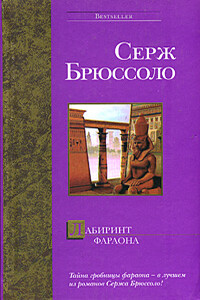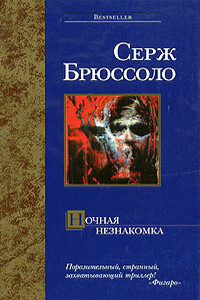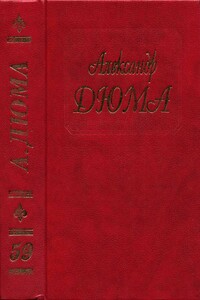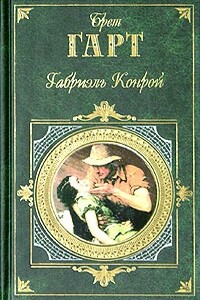Замок отравителей | страница 63
— Если Гомело признается, скажет о происхождении яда, мы, может быть, сумеем побороть болезнь, — процедил сквозь зубы Дориус. — Так что ты понадобишься, чтобы при необходимости проводить аптекаря в лес, дабы тот собрал нужные травы. Лес ты знаешь лучше, чем свой кошелек.
По винтовой лестнице они спустились в подвал, где с момента ареста Гомело подвергался допросу.
Зрелище было жалким. Пахло горелым мясом: палач прижег уши пробовальщика раскаленным стержнем. Бедный Гомело, бледнее, чем обычно, был привязан к дубовому креслу, его руки и ноги стягивали железные браслеты. Он потерял сознание, и подручный палача пытался привести его в чувство, поливая голову ледяной водой. От боли несчастный потерял контроль над собой, трясся мелкой дрожью в рубашке, испачканной мочой и калом.
— Палач легко обращается с ним, — нетерпеливо проговорил Дориус. — Надо бы поднажать, иначе барон умрет еще до рассвета.
Допрос возобновился, но пробовальщик дрожал, а его зубы так стучали, что трудно было разобрать слова; он, очевидно, оправдывался.
— Вы только послушайте! — крикнул Дориус. — Он говорит на жаргоне вавилонян! На языке демона, забытом уже несколько тысячелетий. Это — доказательство того, что он заключил союз с лукавым. Палач, поднажми немного, а то я подумаю, что ты сочувствуешь этому преступнику!
Опасная подоплека этих слов заставила палача удесятерить усердие, и теперь под сводами подвала не смолкали вопли пробовальщика.
— Только не трогайте его язык, — посоветовал Дориус. — Я хочу, чтобы он говорил поотчетливее. Как только он выдаст состав яда, аккуратно запишите и пришлите ко мне.
Мертвенно-бледный монашек-писец, дергавшийся возле палача, согласно кивнул.
— Пойдем, — сказал Дориус, увлекая Жеана к лестнице. — У меня слишком мягкое сердце, я не смогу смотреть на работу палача, когда он перейдет к дыбе. Я — не ты. Ты огрубел на войне и нечувствителен к подобным зрелищам.
Орнан де Ги боролся со смертью почти до полуночи. Дориус соборовал его и умолял исповедаться, но барон уже давно не мог произнести ни слова. Его язык так распух, что зубы врезались в него, и черная кровь стекала из углов губ. Тем не менее умирающий, казалось, слышал слова заупокойной молитвы и даже приподнял руку, чтобы осенить себя крестным знамением. Но рука бессильно упала. Отвратительный запах царил в комнате, и врачи жгли благовония, пытаясь заглушить его.
В коридорах и переходах вовсю носились слухи. Служанки уверяли, что красавица Ода впала в оцепенение, глаза широко открыты, словно у принцессы из легенды, и ничто не может вывести ее из этого состояния. Конюхи говорили, что этой ночью луна окрасилась кровью и напоминала голову ухмыляющегося дьявола.