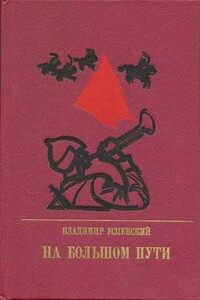Мужские рассказы | страница 42
— Нет, может, ты, конечно, и прав, насчёт жизни, я не спорю, но там в лесу наши. Видели они владимирцев или нет, кто знает. Понимаешь, у нас есть такая штука, называется совестью. Она иногда идёт против рассудка. И ведь вот какое дело, против рассудка бывает, что можно пойти, а против совести — нельзя.
— Хорошо, а как ты собираешься отсюда уползти с копьём в груди? — спросил меня ангел смерти.
— С копьём? С копьём, конечно, не уползу. Ясное дело. Кто же с копьём уползёт?
Вдохнув побольше воздуха, я перехватил дрожащими руками копейное ратовище и что было силы рванул его вон из себя. Боль пронзила меня своими яростными клыками. Что-то порвалось внутри. Свет уходил из глаз…
В горнице было тихо. За оконцем оплывал день, и в полосе его света кружилась пыль. Белая, как хлебный дым на помоле. Я могу долго смотреть на её кружение. Пока она совсем не осядет на половики.
Я сидел за нашим большим столом, широко обхватив его руками и уронив голову на гладкую дощину. Я был ребёнком. Должно быть, я вернулся туда, откуда начал свой путь по жизни. Вернулся к своему истоку. К своему роднику, который соединился с образом этого тёплого и доброго дома. А может ничего и не было? Может мне всё только показалось? Ведь часто детские глаза тревожат внезапные картины чужой, непонятной жизни. Они возникают как отблески чего-то неотвратимого, вовсе не твоего. но, почему-то, хорошо тобой узнаваемого.
У оконца сидела мать и что-то неторопливо творила руками.
— Ну что же ты, сынок, что с тобой?
— Мне больно мама, я больше не могу.
— Это потому, что ты себя жалеешь. А ты себя не жалей. Я тебя пожалею, а ты не жалей. Знаю, как тебе больно, но что ж поделаешь. Ведь нужно идти дальше. Ты только с силушкой соберись и иди себе тихонечко.
— Нет, мама, я не могу идти, ведь я уже умер. Разве ты не видишь?
— А мы твою смертушку отведём, в сторону заманим, словом тайным закличем.
— Да разве мы сможем?
— Вдвоём сможем, сыночек. Человек жить должен, а не со смертью ладить.
— Мне больно, мама.
— Знаю, сынок, знаю.
— Вся грудь у меня рассажена.
— А мы и эту беду осилим. Все слезиночки твои в моё сердце льются. Я бы и сама залечила твою ранку, сынок, да вот притронуться к тебе не могу.
— Почему же?
— Не могу, цветочек мой. Постарайся сам. Ты сам должен.
— Почему не можешь, мама?
Она наклоняет голову и тут только начинаю я с ясностью различать её полупрозрачное лицо. Мать говорит тихо, едва уловимо:
— Потому что нет меня. Я далеко уже и не воротиться мне назад.