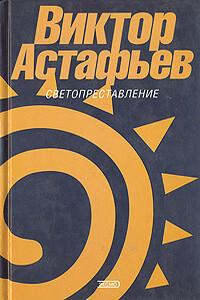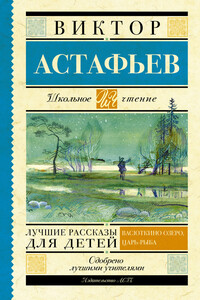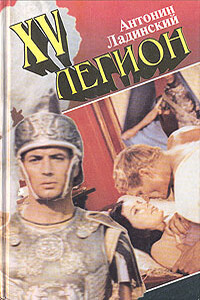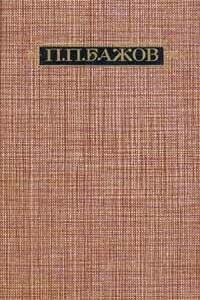Последний поклон | страница 33
Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия — ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, и распахнутые двери выплескивается дружный хор:
Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой — сгреб вот какой-то пьяный охламон облизьянку, уташшыл ее с родины невесть зачем и на че? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет… И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга — да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черно дело?! Не он ли свистнул облизьянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!
Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то куда она впоследствии делась?
Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.
Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведенье:
— Зато как тятька шурунет нас — бегишь и не запнешша.
Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.
— Я, Петровна, слободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя: — Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!