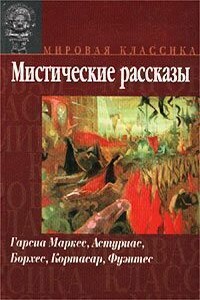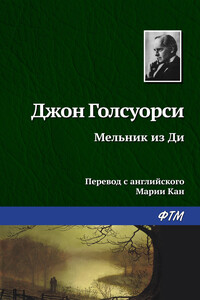Юный владетель сокровищ | страница 61
Однажды лунной ночью я различил меж деревьев черную тень. Помню и шаги — человек ступал, а под его ногами что-то хрупко потрескивало. Он приходил, уходил, долго стоял у дерева, потом исчез, оставив гореть костер. Через восемь дней повторилось то же самое, а еще через восемь, разложив костер, человек направился к моей двери. То был мужчина; когда он приблизился настолько, что стали видны пуговицы его рубахи, я юркнул за дверь, а он остановился… («Если выйдешь в сад, тебя украдут», — говорили обе матери.)
Как только незнакомец ушел, пришли они, на глазах у них были слезы. Они всегда возвращались раскрасневшись от слез, а перед сном, в постели, плакали вместе со мною.
По субботам к нам приходили четыре сеньоры, глупые с виду. Из разговоров я понял, что они — благотворительницы, а мы прозябаем в постыдной нищете. Это гостьи твердили постоянно. Вслед за ними являлись важные, вежливые мужчины и по учтивости своей не гнушались поцеловать моим матерям руку. Последним являлся священник.
Ставили ширму, сдвигали стулья, и получалось что-то вроде гостиной. Матери надевали лучшие свои наряды, почти не чиненные, и тщетно старались скрыть под юбкой старые башмаки. Рядом с разодетыми, блистательными женщинами, мужчинами в прекрасных сюртуках и священником в красивой сутане они казались экспонатами, сбежавшими из музея, или манекенами в блеклых платьях с выставки устаревших мод.
Толковали о нынешних временах, ежесекундно поминая Бога, священника слово «Бог» выходило со свитой из дыма. Толковали о падении нравов, предвещавшем конец спета, и обличали похоть, по вине которой люди лягут, встанут — и все тут, словно звери. Не молятся, не постятся, не помышляют о вышнем. Слово «Бог» опять облекалось в клубы дыма. Толковали о смерти, а потом от Святого писания переходили к забавным случаям. Священник рассказывал жуткие истории о последнем часе грешников, сопоставляя его с тихой кончиной тех, кто умирает в Боге; слово «Бог» опять окутывал дым. Важные мужчины роняли пустые словечки, а женщины, непривычные к таким жестким стульям, присовокупляли, как положено, свои суждения, кто покороче, кто подлиннее. Мне казалось, что они повторяли какие-то гаммы.
При этих гостях мои матери только смиренно опускали и поднимали веки — больше нечего и делать тем, кто, не в силах шевельнуться, хочет напомнить, что еще жив. К естественной их робости прибавлялась суровая власть старых платьев, которые могут порваться от любого движения.