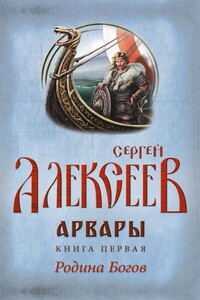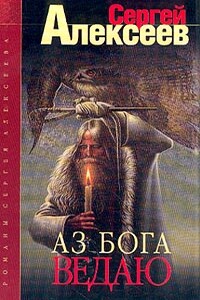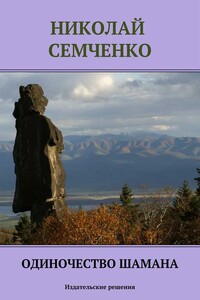Хлебозоры | страница 18
— Ага, вспомнил! — вдруг воскликнул он. — Степан, отдай «вальтер»! Это не игрушка.
— Мы его утопили в Рожохе, — сказал я.
Он сразу же поверил, махнул рукой:
— Утопили, ну и хрен с ним! У меня еще есть, какие хочешь… Главное, чтоб пацанам в руки не попал.
Мать опаздывала на утреннюю дойку, однако он задержал ее во дворе, глянул на ее ноги, потом на мои, покачал кудлатой головой и вдруг махом снял кожаные штаны.
— Вот… — протянул матери. — Себе ботинки пошей, а то и две пары, чтоб выходные… И ему ботинки, парень-то босый.
Мать не отказалась, приняла, спрятала в сундук. А он снова поймал ее за руку, заглянул в глаза:
— Сестренка, Дашутка… А может, мне к вам перебраться? Как вы теперь?.. Хозяйство… Безотцовщина…
— Эх ты, Шлем, — вздохнула мать. — Шлем ты железный…
— Да мне за тебя! — воскликнул он и замахал мне рукой. — Ну, чего выставил уши? Дуй отсюда! Мигом за водой, матери помогать надо! Вон какой гаврик вырос!
В ту же минуту я понял, что он переедет к нам жить, несмотря на сопротивление матери. В общем-то ему было некуда деваться: два его сына погибли на фронте, жена в войну надорвалась на плотбище в Великанах и умерла года два назад. Третий сын Володя служил мичманом на подводной лодке, и дядя Федор считал его бестолковым и никчемным, поскольку он никак не мог выбиться в офицеры.
Дядя мой, Федор, был самым горьким мужиком из всех горьких, которых я когда-то знал.
Так оно и вышло. К сороковинам дядя Федор нагрузил свой мотоцикл скарбом, водрузил сверху клетку с курицами — единственными животинами в хозяйстве, и подкатил к нашему двору. На поминках он не пил, потому и не скандалил, однако при всем честном народе и перед памятью отца моего поклялся, что вырастит из меня солдата, который уж точно дослужится до генерала или даже повыше. На следующий же день он съездил в военкомат и вернулся довольный: как сын погибшего на фронте (а отец хоть и умер дома, но считался погибшим) и как племянник боевого офицера я зачислялся в суворовское училище и теперь обязан был готовиться к службе. Мать, узнав об этом, сначала заплакала, схватила меня, прижала к себе, и я ощутил соль на губах. Только не понял, материны это слезы или мои…
— Не реветь! — приказал дядя. — Ты мне суворовца не расхолаживай!
Из-под сенец вылез наш пес Басмач, прозванный так за лохматую, словно папаха, голову, поднял морду и тоже завыл. Он всегда выл, когда плакала мать.
— Не дам! — вдруг сказала мать и вскочила. — Хватит! За него отец два раза убитый! С нашего двора хватит!