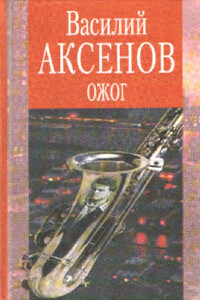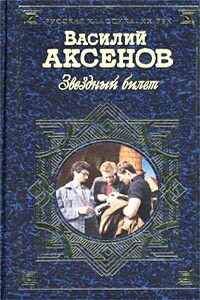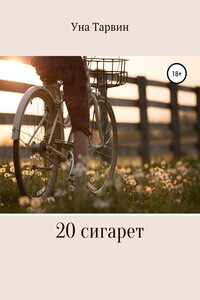Вольтерьянцы и вольтерьянки | страница 259
В Петербург съезжались военачальники на решающее совещание у Государыни, были среди них и два пятидесятидвухлетних генерала, Лесков и Земсков. Кто бы мог подумать, что при Дворе развернутся события столь прискорбные — расстройство брака принцессы Александры и шведского оболтуса Густава Четвертого, все отвратительные толки вокруг сего афронта, — что они приведут к кончине Екатерины и к дальнейшему, весьма сумнительному восхождению на трон Павла. Кто бы мог подумать, что генералы предстанут не перед ней, Великой, а перед жалким Ним, который будет кричать о перемене концепций, о выходе из «греческого проекта» и о сближении с Пруссией, тоже лишившейся декларированного Вольтером Великого и возымевшей своего тогдашнего жалкого грубьяна.
Из всех бывших в тот день у Павла генералов только двое, Лесков и Земсков, осмелились воспротивиться резкой смене курса, поднять голос в защиту «матушкиной» политики. Павел долго тогда на них смотрел с жестоким выражением лица, потом начал делать круги вокруг стола, явно чтобы не сорваться в крик, и, наконец, ровным голосом попросил подать репорты об отставке. Документы сии генералами были тут же с поклоном и предоставлены: подготовили заранее любимчики растленной родительницы, предатели родины! Нелегко они чувствовали себя, идя к выходу из Инженерного замка: могли ведь перехватить, заковать в железа, допросить с пристрастием, бросить в крепость, а то и отправить прямо в Кемь. Обошлось, отставки были по всей форме приняты и подписаны.
Деловая встреча старых братских друзей завершается, семейственная по традиции состоится вечером в поместье Лесковых. Николай Галактионович, с лукавостью напевая старый французский шансончик «Ах, бабушка моя была плутовка», дабы доставить братцу ностальгические воспоминания об улице Травестьер, слегка покряхтывая от своего люмбаго и всякий раз не забывая чертыхнуться в адрес колясочника Честертона, дескать, он виноват, а не шестидесятивосьмилетний возраст, отправляется «домой», как он выражается, хоть и живет в сем гнезде не более двух недель в году. Сын Михаила Теофиловича, сорокадвухлетний экзотический мужчина Георгий с террасы отмахивает Лесковым морской сигнал: «Готовьтесь, маркграф едет!» По прямой-то через речку тут сотни две саженей, а по мосту не менее шести верст.
Михаил Теофилович возвращается в свой кабинет и сразу забывает и Николая, и деньги, и петербургский свет, и даже Буонапарте с его Гран Армэ. Наконец-то он снова один с истинным делом своей жизни, исследованием человеческих жидкостей и слизей, или, как позднее стали называть это дело, с гематологией. Позвав казачка Гришатку, крепостного мальчонку двенадцати лет, крутить центрифугу, он углубляется в созерцание четвертной бутыли с мочою дедка Бычкова, сторожа усадебных парников, страдающего изъязвлениями кожи. Как он и предполагал, при добавлении крошеного марганца в смеси с химикатом собственного изготовления, названного арбокрофором, моча начинает выделять в осадок еле видимые кристаллики, те самые глюфанты, о существовании коих Михаил Теофилович давно догадывался. Из этого следует, что язвочки дедка Бычкова вызваны отнюдь не дурной болезнью, якобы подцепленной суворовским гренадером в Пьемонте, а вот именно этими самыми глюфантами, что накапливаются в моче, а стало быть, и в крови в силу печеночной недостаточности. Предположительно и врачевать сию хворобу можно арбокрофором, с Божьей помощью.