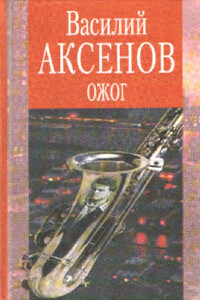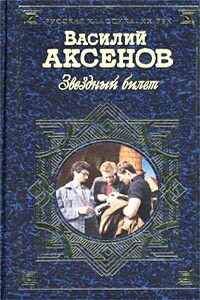Вольтерьянцы и вольтерьянки | страница 204
«Плюю на тебя, Вольтер! — вдруг со скрежетом возопило доисторическое существо. — Что мне твоя история, что мне вся ваша цивилизация?! Считаете свои дни от фараонов, а мумиям сиим всего четыре тыщи ваших лет, значит, недалеко вы ушли и от нильского комара! Какого Бога вы ищете, прославляете, отрицаете, вы, мошкара? Своего, мошкариного? Шкара? Аракш! Карша! Мммшшшкккрррааа!» Речь его быстро превращалась в мычание и скрежет, однако он еще силился нанести человеческому роду главное оскорбление, простираясь над парком в крестоподобной форме и пылая из глаз желтым огнем.
«Убирайся, Карантце!» Вольтер длинным пальцем с едва заметными узелками подагры обводил небосклон, пока не ткнул в самую темную, лиловую бездну. «Ватан, донк, исчадие вони и мрака! Сегодня мы здесь разыгрываем то, что вашим тварям неведомо, праздник юмора и вина! Уходи, а то прикажу стрелять! Я знаю, что ты не умрешь, но будет больно!» Чудище стало извиваться, то выпрыгивая из своей одежды, то влетая в нее и вылетая обратно. Оно еще пыталось принять форму креста, но получались только бездарные изогнутые имитации, то нечто вроде коловорота, то в форме скрещенных орудий труда. Наконец, обратившись в булыгу космического типа, оно умчалось прочь и растворилось в лиловом.
Общество на террасе разразилось хохотом и аплодисментами. «Браво, Вольтер! Какой блестящий перформанс! Вот что значит, господа, блистательное артистическое воображение!»
И снова Вивальди. Бравурно-драматический хор скрипок. Лето в зените. Дальние сполохи. Через час зажгутся Стожары. А кавалеры Буало и Террано все еще не появились. Принцессы с недоумением смотрели друг на дружку.
А в жизни кавалеров между тем произошло неожиданное, хотя, в общем-то, вполне заурядное, учитывая уношеский возраст и мужескую принадлежность, событие. Вскоре после завершения филозофического диспута Николя ворвался в комнату Мишеля. Последний полулежал на диване в обществе бутыли голландского джину, коя была уже наполовину пуста. Он мучился от накопившихся в жизни неясностей. Душа — а может быть, голова? — а может быть, обе совместно? — требовала ответов на сгустившиеся мучительности. Не давала покою, например, память о томительном сладострастии в обществе императорского посланника, барона Фон-Фигина. Что сие было — явь, или полусонная иллюзия, или же полная неявь, а лишь фантазм подпольного сознания? Нужно ли делать вид, что вообще ничего не было, или следует подойти к высочайшему сановнику и попросить объяснения? Бередили душу-сознание и нежнейшие неясности толи с Клаудией, то ли с Фиоклой, эти поддувания сзади возлюбленных до перехвата дыхания завитушек над девичьими шейками, эти обмены столь многозначительными откровениями взглядов, эти мучительные и пьянящие голову ощущения сословного неравенства с сими принцессами, рожденными вовсе не для амуров с офицерами, даже и гвардейскими, а для династических браков европейской монархической паутины. Тревожили и множественные вопросы, накопившиеся, особенно после сегодняшей дискуссии, к мэтру Вольтеру, особенно по поводу первородного греха и происхождения человека. Возможно ли со стороны столь выдающегося оппонента теологии, величайшего мудреца и поэта, столь буквалистическое толкование идеи Творения, в частности вот этого посыла: «Из праха Ты встал, во прах и вернешься»? Осмелиться ли предложить ему догадку, что Время — это и есть Изгнание из Рая? Задать ли вопрос о возможности разных потоков времени, в частности о жесточайших «вольтеровских войнах», в кои мы с Николашей время от времени проваливаемся? Поймет ли он сию облискурацию, пусть хотя бы уж как козни местной дьявольщины, или примет за идиотов? Ей-ей, все эти нелегкие мысли вызывали порой у Михаила Земскова прямое желание принять на загривок какое-нибудь пушечное ядро или ж самому атаковать башкою вперед крепостную стену вековечной кладки.