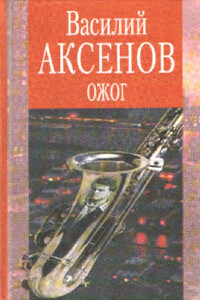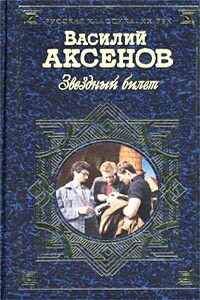Вольтерьянцы и вольтерьянки | страница 144
Пока с чудовищным скрипом ползли вверх, король демонстративно понюхивал табачок, посматривал на часы, похлопывал по задкам кое-кого из смазливых адъюнктов. Ему не нравилась сия машина. Всякий раз внутри оной казалось ему, что вот-вот рухнет вниз, в тартарары, то есть в царство Тартара. Нельзя, однако, было показать никакого сомненья в прогрессе.
И вот наконец прибываем не вниз, а наверх, в царство Борея. Ветер веет по крыше, щелкает флагами, колышет плюмажи стражи, вздымает хвосты и гривы четырех трудовых коней. Первый из них, любимец Его Величества, рыжий в белых яблоках ломовецкий великан приплясывает на копытах, коленом трогает бок короля, мягкой губищей принимает подарок, бомбочку марципана, косит антрацитовым глазом: дескать, не ради сласти так рад, а ради огромнейшей преданности вам, человече, не знаю, как звать.
Король его треплет по холке, оглаживает мускулатуру. Ну что за зверь! Вот он, символ трудящейся Пруссии, же круа! Бросить бы все заботы, расстаться с великим саном, упаковать все книги, впрячь великана в фургон и медленно двигаться в никуда, тихо стихи сочиняя, тихо играя на флейте.
Чудовищный фон Курасс тут вмешался в идиллию с подобьем улыбки: «Ежели не секрет, Государь, отчего присовокупили вы к Смарку имя Ослябя?»
«Да просто так получилось, — засмеялся король. — Чисто фонетическая игра. Ослябя Смарк — славное созвучие, не правда ль? Ведь я о нем пишу поэму. Вы знаете, откуда взялось сие имя, Йохан? Ослябей звали русского монаха-воина, что положил немало супостатов на Куликовом поле».
Интересно, кто из нас сумасшедший, подумал тут оборотень, однако с вежливостью вопросил: «Как совместить, Майастат, ваше расположение к монаху Ослябе с вашим вполне справедливым нерасположением к России?»
Король высокомерно посмотрел на фельдмаршала. При разнице в росте далеко не в его пользу все-таки получалось, что смотрел свысока. «Вам что-то не то нашептали ваши мышки. Я очень люблю Россию».
Фон Курасс отвернулся, чтобы скрыть пугающие изменения лица. Упоминание мышек можно понять как аллегорию, а можно и как прямое разоблачение.
«Ну хорошо, продолжим наш разговор», — сказал король, покидая коня. Вдвоем они отошли к краю крыши, и все вокруг как-то преобразилось в гравюру Дюрера: два государственных человека, воители века, а в глубине композиции огромные кони и мощная свита юнцов с разнообразьем оружья.
«Ну так вот, — заговорил король, — недаром Версаль запретил перевод екатерининского „Наказа“ во Франции. Она провозглашает свободу всех религий, то есть подрывает кое-как установившийся мир после вековой резни. Однако на этом сия либеральная дама явно не остановится. В угоду любимым энциклопедистам она и дальше начнет расширять свой свод реформ. Вплоть до отмены феодальных привилегий, включая крепостное право. В этом заключается наибольшая опасность для Европы и особенно для Пруссии. Вы понимаете меня, фон Курасс?» Фельдмаршал стоял, опустив морщинистые длинные веки. Лишь щелки остались для глаз, но каким полыхали жаром! «Прошу вас, Ваше Величество, расширить этот ваш тезис», — проскрипел он. Тут и король вспыхнул. «Какой, к чертям, тезис! Я просто чувствую всей своей шкурой надвигающуюся опасность! Я сам пришел к власти, вдохновленный, опьяненный или, может быть, одурманенный всем этим вольтерьянством! Антимакиавеллизм! Государство, основанное на высшей морали! Только через несколько лет на троне я понял тщетность всех этих мечтаний. Уж вы-то, фон Курасс, знаете, на какой грязи замешана наша глина, как воздвигалась наша крепость, как мы удержали нашу армию и экономику. Король-филозоф не смог даже отменить наш германский вариант крепостного права».