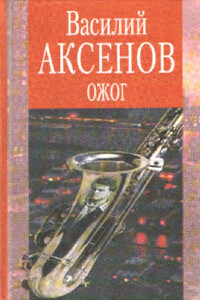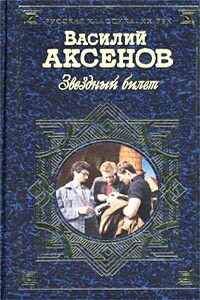Вольтерьянцы и вольтерьянки | страница 127
Через пару недель она сообщила наивному воину, что понесла. Не было в королевских войсках более счастливого человека! Ну а два любовника, старый и молодой, согласились числить ребенка среди «разнообразных проектов» ученой дамы.
Она, впрочем, и родила прямо в лаборатории. Ребенок буквально вывалился у нее из-под юбки, пока она ставила химический эксперимент. Через шесть дней она умерла от родовой горячки. Вольтер, поняв, что ее больше нет, вышел из комнаты и упал поперек коридора. Как долго я был без сознания, не знаю, но, когда приходил в себя, если это можно назвать возвратом к себе, я бился головой в стены и вопил: «Мой Бог! Месье! Что побудило тебя забрать ея у меня?!»
Все дамы и девы, сидевшие вокруг камина, разрыдались. Посланник Фон-Фигин закрыл лицо на этот раз обеими руками. Мужчины и уноши окаменели. Вольтер вытер лицо платком и с завидной сухостью завершил сей печальный рассказ:
«Так закончилась последняя любовь в моей жизни. Физическая ея сторона вновь превзошла и задавила духовную. Я часто думаю о преображении Адама, об отделении Евы, о страсти к воссоединению, которая приняла форму первородного греха. Почему замес из первичных элементов воздуха и земли принял такие формы, приносящие нам и наслаждение, и муку? Почему это выглядит так ридикюльно, так животно, почему это то и дело становится каким-то странным посмешищем в наших собственных глазах? Неужели на небесах не мог возникнуть какой-либо иной консепт, ну, скажем, соединение каких-либо нежных поверхностей, какая-нибудь вибрация блаженства и восторга, происходящая без выделения всех этих наших секреций, без вони?»
Некоторое время вокруг камина королевствовало молчание. В заушные углы вольтеровской главы стала пробираться зевота. Ну чего это я так разоткровенничался перед незнакомыми людьми? — думал филозоф. Ну я понимаю: Фодор, посланник великой женщины, воплощения Империи, или Ксено — дипломат-шпион, каковым и мне самому пришлось в свое время отличиться, вельможный гранд и сочинитель своей абракадабристой утопии, или эта юная четверка, принцессы с их глазами-бабочками, всадник Николя, будто сошедший с картин ля Шампаня, Мишель с его великолепными странностями — это все свои, доверительные люди, однако все другие-то, целая толпа, зачем они? Впрочем, почему бы и нет? Допустим, на Аляске я собираю тысячу эскимосов и исповедуюсь перед ними; допустим, они начинают разносить мою исповедь по пространству, что из того? Пространства столь велики, что все эти россказни растворяются в ледяной лебедяни, а там, где пространства не играют никакой роли, там и так все знают.