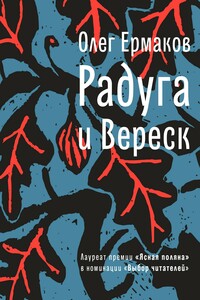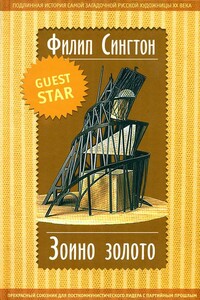Знак Зверя | страница 45
Вши были одним из главных бедствий города. Против них велась упорная борьба. Вшей травили бензином, соляркой, дустом, выжигали утюгами, умерщвляли паром, кипятком и жаром во вшивобойных фургонах, но где-то оставались крошечные, похожие на перхоть яйца — две-три перхотинки, прилипшие к чему-нибудь, к какой-нибудь ворсинке, и из них вылуплялись многоногие насекомые, они ползли к телам, излучавшим тепло, поселялись в какой-нибудь складке, потягивали из тела теплый жирный сок, спаривались и засевали перхотинками все складки и швы, разукрашивали белыми гирляндами волосы в потаенных местах. Вши бесили, мешали спать.
— Откуда эти твари гнусные берутся?! Почему: как война — так и вши? Ведь моемся часто, да и солдаты моются часто?
— Вот я служил в Прибалтике, так в нашей части никакими вшами этими и не пахло. Я только тут их и увидел. Вообще в Прибалтике... сосны, дюны, пиво, прохладные дожди.
— Но и женщины прохладны, как дожди.
— Ну как тебе сказать... Я вот вспоминаю... да нет, я бы не сказал, знаешь ли. Конечно, не твои пороховые хохлушки. Хотя, честно говоря, мне кажется, это натяжка — что эстонки такие-то, а там француженки такие-то. Всюду женщины одинаковы.
— Ну не скажи! Я послужил. На Дальнем Востоке был, в России. И вот перебросили меня на Украину...
Подобным образом заканчивались многие разговоры. Горожане часто говорили и много думали о женщинах, о женщинах вообще и о тех, что жили в полку.
В городе у Мраморной горы до недавнего времени было шесть женщин: одна работала поварихой, две в магазине, две в санчасти и одна в штабе. Самой красивой считалась сестра из санчасти, у которой была короткая толстая русая коса, и ее звали Сестра-с-косой. Впрочем, единого мнения на этот счет не было, одним больше нравилась она, другим продавщица Валя, белокурая, улыбчивая, нежная. Остальные женщины были не столь ярки, чтобы на них оглядывались на улицах обычного мирного города, но достаточно женственны, чтобы притягивать взоры жителей города у Мраморной горы, — притягивать взоры и распалять воображение, повелевать и капризничать. И они повелевали и капризничали, Клеопатры мраморно-брезентового города.
А в разгар желтушного лета, когда каждое утро кто-нибудь просыпался и видел в зеркале свое лицо с чужими рысьими глазами, и с каждой колонной, уходившей в Кабул за провизией, уезжали десять — пятнадцать человек, больных желтухой, и все больше хлорки сыпали в воду, и делали повторные прививки, — в разгар желтушного лета в мраморно-брезентовый город под мутным желтоватым небом приехал профессиональный библиотекарь, и непрофессионалу-солдату пришлось покинуть уютную комнату в торце офицерского общежития, где он недурно прослужил год — в покое и тишине, в беседах с редкими посетителями, толстея, розовея, мастурбируя в обеденный перерыв между стеллажей и читая военные мемуары, повести про разведчиков и романы Юлиана Семенова. Комната со стеллажами преобразилась, на стене появилось зеркало, на подоконнике и столе — сухие злаки в глиняных вазах, вечно пыльные стекла окон сделались прозрачны, и полы по утрам теперь были влажны. В городе у Мраморной горы поселилась седьмая женщина, и уже через несколько дней проявились первые вспышки новой эпидемии, а две недели спустя недугом книгоедства была охвачена большая часть населения, и день напролет дверь библиотеки хлопала, крыльцо скрипело под сапогами, полусапожками и ботинками, тщательно вычищенными, сияющими; вдоль стеллажей бродили, рылись с напряженными лицами смуглые мокрые солдаты, прапорщики и офицеры в жаркой влажной одежде, — они выискивали что-то особенное на стеллажах, долго выискивали, находили, уносили, проглатывали, не жуя, и возвращались через день-два — голодные; кажется, чем больше они поглощали, тем яростней становился голод и жажда.