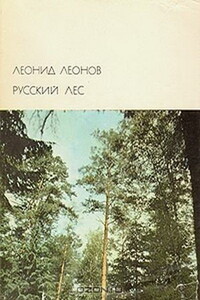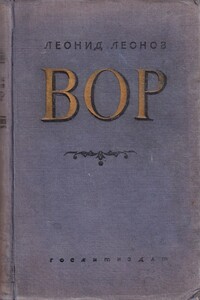Пирамида. Т.2 | страница 100
Все возраставшее, лишь наследственной нервозностью объяснимое ожидание, что однажды ему раскрошат череп, и побудило Вадима на его поистине самоубийственную попытку перевоспитать великого вождя. Косвенным средством должно было послужить изготовленное им, по размеру небольшое и с уклоном в художество, псевдоисторическое сочинение, хотя не обладал для того ни нужными сведениями, ни тем более талантом. Не собираясь стать писателем, Вадим руководствовался бытующим в Европе мнением, что интеллигентному человеку положено, к примеру, перевести Вергилия английскими стихами, равно как у нас в последние годы право излагать свои переживания в виршах и прозе с последующей публикацией их стало прочным завоеванием всех трудящихся. Седая старина избранной им эпохи, предоставляя обширное поле для фантазии, служила надежной ширмой для искусно вправленных намеков, кстати, тогда не возбранялось описывать патологическое тщеславие давнопрошедших деспотов да еще сорокавековой давности... Таким образом, произведение Вадима Лоскутова являлось зашифрованным посланьем властелину. Авторский расчет сводился к тому, что грозный адресат по прочтении его увидит себя в зеркале художественного образа, в чем и состоит единственный смысл литераторского общения с читателем, устыдится обличительного сходства фактов, ужаснется сюжетному пророчеству и, тронутый отвагой предостережения, обнимет его на вечную дружбу.
По завершении гражданской войны стихия социальной бури, с ходу устремившаяся за рубеж, порождала там равной силы потенциал противодействия. Газетная молва, донесенья послов и соглядатаев, раздумья над политической картой Европы, даже простонародные знаменья — все сводилось к неминуемому впереди столкновенью полярных идей. Судя по сложившейся обстановке, возглавить штурм отжившей старины предстояло тогдашнему хозяину страны, взращенному на корнях иной породы. Как и до него, пришлых чужеземцев на Руси повергали в смятение чересчур скорые, со слезой льстивого умиленья овации туземцев и витиеватые, на византийский образец, акафисты придворной знати и челяди, самая речь подданных на диалекте в триста казенных слов, но пуще всего тревожная, обок с гробницами русских государей, полночная кремлевская тишина с жутким скрипом приоткрываемой двери, шорохом крадущихся шагов. Так в бессонные раздумья о назревающей схватке миров невольно врезались памятные картинки здешней старины вроде бунтовского, с пальбой и матерщиной разгула стрелецкой вольницы как раз под отблеск пылающей столицы на щеках завоевателя в треуголке, вздумавшего сквозь зубцы крепостной стены полюбоваться на трофей, либо мимоходное, на боярской пирушке усекновенье башки у подвернувшегося самозванца, либо тут же поблизости несчастная случайность с родным царевым дядей, чью недостающую голову позже отыскали на крыше соседнего здания. Сказанное позволяет предположить, что всевластный повелитель страны пребывал там пожизненным узником среди бескрайней пустыни своего царственного одиночества.