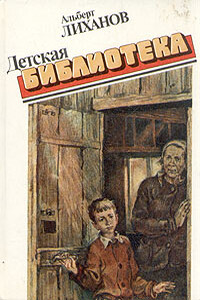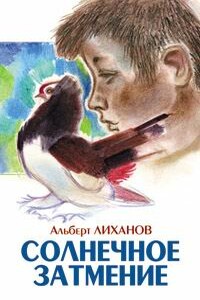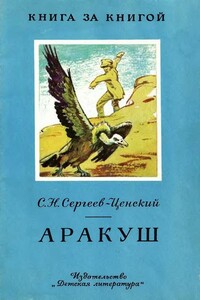Деревянные кони | страница 60
Я посмотрел на Ваську. Он вдруг беспомощно обернулся к председателю. Никогда я не видел таким Ваську. Губы у него тряслись и банка с краской тоже.
– Терентий Иванович, – сказал он глухим голосом, – я… – Он мотнул головой, словно у него стоял комок в горле. – Пусть Николка! У него хороший почерк!
Председатель посмотрел в толпу:
– Коля! – сказал он. – Иди сюда!
Я не понял, что это зовут меня, но толпа передо мной расступилась, образуя тропку к холму. Кто-то подтолкнул меня сзади, и я, как на трибуну, поднялся на горку.
– Пиши! – сказал мне Васька, и я принял у него банку с кисточкой.
– Иван Петрович Васильев, – повторил председатель. – Одна тысяча девятьсот шестой – одна тысяча девятьсот сорок первый.
Я нагнулся к пирамидке и аккуратно вывел буквы. Я волновался, и рука у меня дрогнула. Я обернулся. На меня молчаливо смотрели люди.
Я повернулся к памятнику и поставил точку.
– Иван Дмитриевич Васильев…
Вдруг кто-то дико закричал. Я опять обернулся, оплеснув штанину красной краской. На земле, у подножия, лежала тетка с карими глазами, та, что жала на коленях. Она прижималась к дерну, обнимала его и плакала, плакала так отчаянно, что мне стало страшно. Я отыскал взглядом Ваську. Он сидел на холме, возле пыльных сапог председателя, обняв руками свои колени.
Я отыскал тетю Нюру.
Она не плакала. Она глядела сухими, воспаленными глазами на пирамиду и, казалось, ничего не видела.
Костер раскидывал в красной траве черные тени и громко хлопал прогоревшими сучьями.
Я содрогнулся. Первый раз в жизни я видел такое горе.
Горе не одного человека, не двоих, не одной семьи, а горе целой деревни.
В ту ночь я долго не мог уснуть. Перед глазами плясал торопливый язык костра, бесконечно шуршало сено.
Я думал о памятнике, об убитых солдатах и о своем отце. Еще тогда, в городе, когда Васька рассказал, как погиб его отец, мне сделалось стыдно за то, что я счастливей моего приятеля. Сегодня я снова почувствовал это, но теперь я понял, что это не стыд. Я просто понял, что в час скорби других, такой скорби, которую я видел, твое счастье должно как бы отступить в тень, должно отодвинуться, стать в сторонку.
В трепещущих бликах костра, стоя у памятника, я не был, не мог быть счастливым от мысли, что мой отец жив, хотя мог погибнуть, как погибли эти Васильевы. Я горевал вместе со всеми, я выводил буквы дрожащей рукой, еле сдерживая слезы, и не думал, не мог думать про отца.
Теперь же, когда все осталось позади, отец словно шагнул ко мне, оттуда, из Германии, выступил из тьмы и встал совсем рядом. Мое собственное счастье стало ближе, и мне до смерти захотелось поскорее схватить отца за руку, поскорее увидеть его и не умом, а в самом деле ощутить свое счастье…