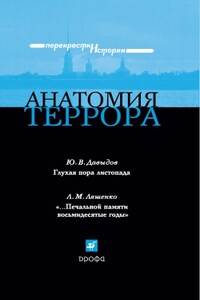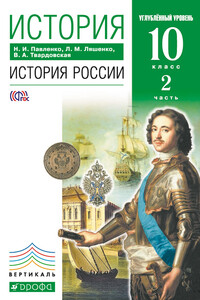Александр II, или История трех одиночеств | страница 51
В очень непростых условиях, сложившихся в начале его царствования21, Александр Николаевич держался уверенно и внешне спокойно. Американский дипломат А. Уайт так характеризовал российского монарха: «Он был высок, как все Романовы, красив и держался с большим достоинством, но у него гораздо меньше величественности и полностью отсутствует неуместная суровость отца». Может быть, Александра II поддерживало предчувствие близких, пусть и трудных, но необходимых стране перемен? А может быть, он радовался тому, что лед безгласия и бесправия общества трещал и начинал ломаться? Чувствовал это не только монарх. Очевидец событий, происходивших в середине 1850-х годов, свидетельствовал: «... отъявленные крепостники готовы были согласиться на большие пожертвования и на всякое, самое для них убыточное прекращение крепостного состояния, лишь бы освободили их от страха, возбуждаемого в них возможностью провозглашения вольности при вторжении врагов в наши пределы». В скобках заметим, что подобные настроения быстро испарились у помещиков после заключения Парижского мирного договора между Россией и воевавшими с ней союзниками.
Передовая часть общества тем временем внимательно присматривалась к новому монарху, ожидая от него, как это обычно бывает при переменах на престоле, чего-то чудесного и сверхпрогрессивного. Кое-кому взошедшее «светило» виделось при этом совершенно без темных пятен. «На Александра Николаевича, – писал известный либерал-западник К. Д. Кавелин, – нельзя смотреть без участия и сожаления... Он исполнен лучших намерений (интересно, откуда Кавелин мог это знать? Или он просто на это надеялся? – Л. Л.) и держит себя очень хорошо... Любовь к царю растет видимо... Признаюсь... что доброта и чистосердечие царя и меня начинают побеждать и привязывать к нему лично». Кавелину вторил глава семейного клана славянофилов С. Т. Аксаков: «Мы на каждом шагу видим, что государь хочет правды, просвещения, честности и свободного слова... Едва веришь, что наступает время, в которое честному человеку можно будет говорить без страха».
Наивно было бы предполагать, что грядущие перемены совершенно не страшили Александра II или что у него имелся готовый и подробный план глобальных преобразований. Проблема крепостного права была слишком сложной, чтобы к ее решению можно было относиться без опасений. Да и чисто политические вопросы, особенно установление диалога между властью и обществом, являлись для империи проблемами абсолютно новыми. Вообще-то этот вопрос был не менее назревшим, чем отмена крепостного права, но к его решению до Александра II никто из монархов так и не пытался приступить. Однако новый самодержец верил в себя и в Россию, в конце концов, он просто не имел возможности отступить, выбрать какие-то менее радикальные варианты решений. Его долг главы нации призывал действовать осмотрительно, но смело и быстро. Трудности, как известно, ломают слабых, сильных же заставляют с утроенной энергией бороться с ними. Россию же никто и никогда слабой не считал.