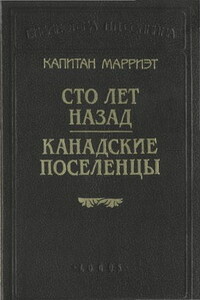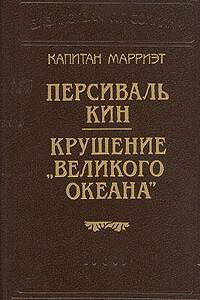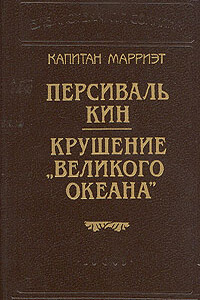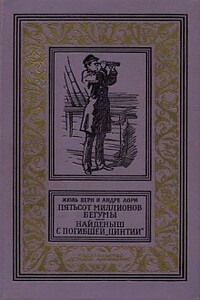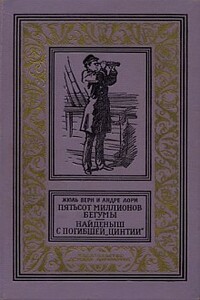Изгнанники Земли | страница 42
С минуту Каддур молчал, видимо, погруженный в тяжелые воспоминания своего прошлого, затем, подняв голову, продолжал:
— Думаю, что для вас едва ли может быть интересно услышать повесть моей грустной жизни, — при этом голос его звучал как-то мрачно и угрюмо, а брови сурово сдвигались на его морщинистом лбу. — Те вопиющие несправедливости и страдания, каким меня подвергали жизнь и люди, конечно, вызовут в вас только чувство жалости ко мне, а это чувство для меня столь же ненавистно и оскорбительно, как и самая едкая, самая злобная ирония…
На это все наперебой поспешили выразить ему свое живейшее чувство симпатии, свое горячее сочувствие к его страданиям и уверили его, что все они движимы в данном случае отнюдь не праздным любопытством, но сердечным желанием разделить с ним все горе его прошлой жизни. Доктор и на этот раз сумел затронуть самую слабую струну Каддура, заговорив о том, что его биография представляет для него чисто научный интерес. Это заставило наконец Каддура решиться приступить к повествованию истории своей жизни.
— Вас, вероятно, удивит, — начал он, — если я скажу, что я ваш соотечественник? Правда, я не смею наверное утверждать этого, так как не имею на то достаточно основательных данных. Собственно говоря, я не имею ни настоящей родины, ни человеческого имени. Зовут меня Каддур, но мне смутно помнится, что когда я был маленьким ребенком, меня звали Шарль. Что же касается фамилии моей, то я совсем не помню ее, да, кажется, никогда и не знал и уж, конечно, никогда не узнаю ее. Мою семью, родину и место у родного очага, как бы убог и скромен он ни был, — все это разом отняли у меня в самом начале моей жизни. Но некоторые отдельные обстоятельства, некоторые факты, Бог весть каким путем уцелевшие в моей памяти, случайно пойманные на лету слова, отрывки разговоров, над которыми я потом долго думал, даже само знание французского языка, какое я однажды совершенно случайно открыл в себе, — языка, которого я никогда не изучал, — все это, вместе взятое, заставило меня прийти к тому заключению, что я француз, что в этой славной стране прошли ранние дни моего детства. И я с радостью уцепился за это убеждение, потому что для меня было бы Ужасно думать, что я принадлежу к той же нации, к какой принадлежали мои палачи!
— Мне, вероятно, было года три или четыре, когда меня похитили эти негодяи. Родители мои жили в время, как мне помнится, в веселой, живописной деревеньке и, должно быть, были скромные земледельцы. Каждый раз, когда мне, в течение всей моей жизни, приходилось видеть виноградники, я испытывал необъяснимое чувство существа, попавшего в свою родную стихию; я чувствовал в них что-то родное и близкое душе, потому полагаю, что моя семья была или из Бургиньона или из Бордо, или из Лангедока. Как бы там ни было, до только я прекрасно помню, что однажды странствующий цирк заехал к нам в деревню и раскинул невдалеке от нас свою громадную пеструю палатку. Родители мои свели меня на одно из представлений цирка, — и с того момента я ни о чем другом не помышлял, ни о чем не думал и наяву, и во сне, как только о забавных клоунах, блестящих наездниках, дрессированных собачках и красиво оседланных лошадях. И вот, в один прекрасный день, томимый непреодолимым желанием увидеть все это еще раз, я, крадучись, ползком, на четвереньках, пробрался под пеструю холщовую стенку палатки, казавшуюся мне тогда оградой рая. Не прошло десяти минут, как я пробрался туда и с напряженным вниманием наблюдал, как клоуны и канатные плясуны собирали различные принадлежности своего ремесла, очевидно, готовясь к отъезду, как вдруг чья-то тяжелая, громадная рука грузно опустилась на меня, закрыла мне рот, так что я не мог крикнуть, и утащила меня в какой-то темный угол. Здесь я очень долго проплакал и наконец заснул. Когда же я проснулся, то увидел себя в одном из передвижных домиков на колесах, которые так сильно возбуждали мое любопытство, и которым я так дивился, как чему-то невероятному. И вот с тех пор я сделался против воли принадлежностью этой труппы странствующих артистов, и в течение долгих, мучительных пятнадцати лет мне было суждено оставаться покорной, безответной вещью в руках владельца цирка.