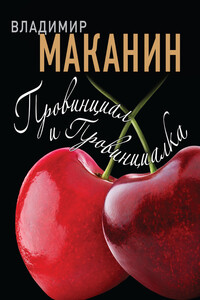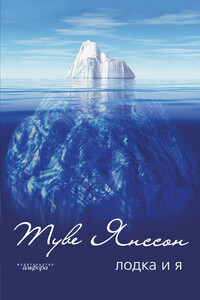Лаз | страница 17
Ключарев вспоминает глаза своего мальчика. Они так кротки и добры; если к тому же в них вдруг появляется на миг осознание нынешней ситуации (как он ее чувствует? каким тайным знанием?) и вместе с тем осознание своей личной беды, он спрашивает: «Нана, нанему ня наной?» (Папа, почему я такой?) А Ключарев теряется, не может выдержать его взгляда. Мой мальчик. Ему не пролезть ни в какой лаз. Но что будет с сыном, если Ключарев тем или иным случайным образом погибнет? Был же Павлов Сергей Леонидович — и нет больше Павлова Сергея Леонидовича. Глаза моего мальчика — прекрасные глаза. Они никогда не выразят лишнего, житейского. Они полны знанием, которое люди знают, но которое выразить они не могут. (Знанием, как печален и как открыт человек.) Не выдерживая его взгляда, Ключарев обычно отворачивается, но его мальчик успевает заметить. Заметить и понять. Он чуток. Он кладет Ключареву руку на плечо или на спину и, слыша неслышные тихие сотрясения отца, говорит: «Не нана. Не нана...» (Не надо.)
Там, где дачи, Ключарев появляется после того, как еще дважды пересаживается с автобуса на автобус. Движение возможно лишь галсами, зигзагами маршрутов, спасибо, что они есть, — и когда колесный путь кончается, Ключарев, оглядев местность, идет пешком там, где уже пахнет хвоей, сосной. Там, где дачи.
Сначала вдоль мощных заборов, глухих, как стена, — это убежище, пожалуй, надежно, никто и никогда не знает, живешь ты здесь или нет, уехал или таишься. Забор высок, величав, внушает уважение. Но величественное кончается скоро. Уже пошли с обеих сторон дачки пообыкновеннее, с малой землей, со штакетником, просвечивающим далеко насквозь и жалко защищенным сиренью. В одной из плохоньких и явно брошенных дач виден подыхающий пес. Некормленый и забытый, он лежит у своей будки не в силах подняться. Жалость к животному (она еще есть! — удивляется Ключарев) толкает Ключарева войти в калитку, чтобы отвязать его с цепи, но оказалось, подыхавший пес не привязан. Просто он там, где всегда. И если другие голодающие собаки разбежались, этого что-то удерживает, любовь или долг. Глядит на Ключарева спокойным взглядом животного, уже знающего смерть. Поискав в кармане, Ключарев отламывает половину сухаря, кладет близко.
У Чурсиных дачка также из плохоньких, из серых, и Ключарев не уверен, нашел бы он ее сейчас в подступающей темноте, если бы не один бедненький пейзаж, который вдруг встает перед его глазами. Обыкновенная опушка. Изгиб, поворот дороги. Сосна у поворота. Это и есть опушка Чурсина, поворот дороги, который он не раз показывал Ключареву и говорил, что вот — часть его жизни. Он, Чурсин, может смотреть на этот поворот дороги бесконечно. Он приходит сюда и в дождь. Ключарев не знает, что за тени или какие такие души минувших веков будоражат тут память его друга. Он не знает, что это дает Чурсину, но ему, Ключареву, это тотчас дает сориентироваться в дачной географии. Как план-карта. Через три минуты Ключарев уже возле их дачи. Собаки у них нет. Ключарев гремит их негромким звонком, затем входит, сначала, разумеется, подсунув руку и сбросив щеколду калитки.