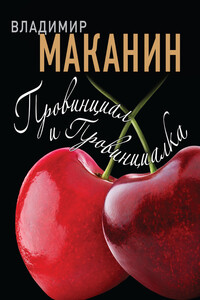Один и одна | страница 42
Сверение своей жизни с некоей длящейся жизнью духа не самый плохой путь саморазвития, и когда-то путь вознес Геннадия Павловича в его интеллектуализме очень высоко, да и теперь, при раннем старении и апатиях, это не самые плохие дни. Конечно, у нынешней его мысли нет острия. Мысль — кружит. Он копает и копает идею роя, идею, которая из ведомой (поначалу) стала для него ведущей — идею необходимо совместного бытия людей. (В которой, возможно, изнанка боязни подступающего одиночества.)
Геннадий Павлович завел себе кота; прожив до года и едва-едва достигнув боевой зрелости, кот сбежал, после чего Геннадий Павлович взял себе другого, совсем малого котенка, но и тот, войдя в сок, предпочел обширные подвалы соседнего дома, где скоро погиб после трудов санэпидемстанции. Геннадий Павлович лишь разводил руками, печалился; он их всех звал Вовами. А у меня кот Вова, говорил он.
Наконец у него появился черный с белым галстушком Вова, который, убегая, исчезал на месяц-два-три, однако спустя время появлялся; кот был зрелый, сильный, хитрый и держал, что называется, при себе и то и это: и квартиру Геннадия Павловича, где появлялся лишь на несколько дней, и подвалы, где он мог пропадать подолгу и резвиться. Кот не сжигал мосты окончательно.
Геннадий Павлович слышит за дверью мяуканье и впускает.
— Ну что, проголодался? — спрашивает он кота и кормит его. Насытившись, кот забирается на радиатор отопления и немедленно, растянувшийся, распластавшийся там, засыпает. Ни ласки, ни общения он не хочет. (Какой прок от гулены!)
Геннадий Павлович глядит в окно — сквозь клены и березки, высаженные возле дома, ему видится, что кто-то идет, а это ветер треплет ветки и листья, отчего листья приходят в круговое движение.
Кружащая игра света напоминает ему косые лучи в студенческой аудитории, которые (все более искоса) смещались, скользя с лица на лицо. Вечерней размягченностью духа Геннадий Павлович вызывает в памяти ту давнюю группку, стайку очаровательных юных женщин, что так трепетно слушали Хворостенкова, говоруна, мечтателя, чуть ли не трибуна, что садились во втором, в третьем ряду аудитории, следя влюбленными глазами, в то время как за ними следил смещающийся солнечный луч.
Уже ночь или почти ночь, а он так и не разделся, не погасил свет — лежит, глядит в потолок. Сон придет, сморит, тогда можно и раздеться.
Но по следу памяти, как-то само собой, Геннадия Павловича вдруг прихватывает ненадолго полуночное возбуждение, минут на восемь — десять, после чего иссякает, но за тянущиеся сладкие эти десять минут душа алчет, мысли куда-то летят, торопятся. Он вдруг забывается. Не вполне отдавая себе отчет, путая что-то с чем-то и страстно желая услышать хоть звук человеческого голоса, он подскакивает к телефону, хватает записную книжку, на девять десятых белую, пустую, давно забытую, — на белом поле листика глаза натыкаются на некий номер, и, боясь передумать, боясь смутиться и на полпути передумать, Геннадий Павлович торопливо звонит. И говорит женщине, лица которой сейчас даже не представляет: