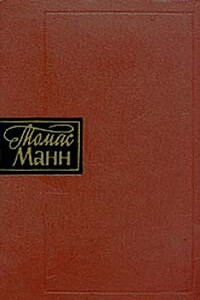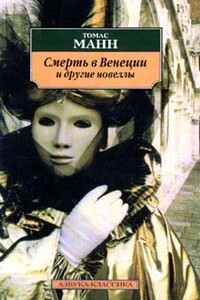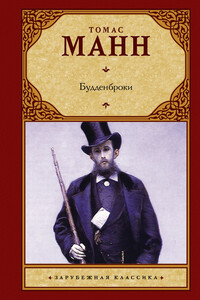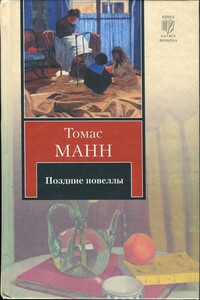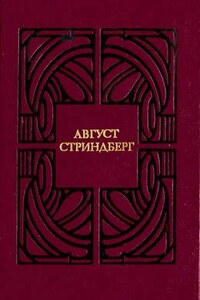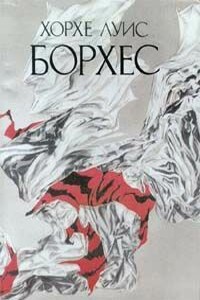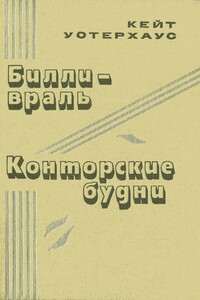Иосиф-кормилец | страница 10
Какая там теперь плоеная изысканность, какой там модный передник и дорогая куртка (ведь она же стала говорящим «доказательством») — ничего, кроме рабского набедренника, точно такого же, как у корабельной прислуги, ему не оставили. Какой там изящный парик, не говоря уж о финифтевом воротнике, запястьях и нагрудной цепи из тростника и золота! Все эти прекрасные дары культуры пошли прахом, и единственным оставшимся у него бедным украшением была ладанка на бронзовой нашейной цепочке, та самая, которую он носил в стране отцов и с которой семнадцатилетний Иосиф угодил в яму. Остальное было «сброшено» — про себя он употреблял именно это многозначительное слово, слово-намек, поскольку намеком, проявлением печальной закономерности было и то, что сейчас происходило: ехать туда, куда он ехал, не полагалось с нагрудными или наручными украшениями; ибо настал час, когда сбрасываются покровы и побрякушки, час сошествия в ад. Цикл завершился, не только малый, часто замыкающийся цикл, но и большой, повторяющий одно и то же гораздо реже: ведь круги проходили один в другом, и середина у них была общая.
Малый год опять замыкал свой круг, солнечный год, поскольку илоносные воды снова убыли, и (не по календарю, а в практической действительности) стояло время сева, время мотыки и плуга, время разрытой земли. Когда Иосиф поднимался с циновки и, с разрешения своего сторожа Ха'ма'та, руки за спину, словно он держал их там по собственной воле, прогуливался, вдыхая звонкоголосый воздух реки, по палубе, или же сидел там на бухте каната, он видел, как на плодородных прибрежных землях крестьяне творят суровое и опасное дело, требующее всяческих мер искупленья и предосторожности, печальное дело пахоты и посева, печальное потому, что сев — это время печали, время похорон бога злаков, погребенья Усира во мраке лишь очень дальних надежд, время плакать — и, глядя на погребающих зерна крестьян, Иосиф тоже нет-нет да плакал, ибо его тоже погребали во мраке лишь очень дальних надежд — в знак того, что вот и большой год замкнул свой круг и принес повторение, обновление жизни, сошествие в бездну.
Это была бездна, куда уходит Истинный сын, Этура, подземная овчарня, Аралла, царство мертвых. Через яму колодца он пришел в преисподнюю, в страну мертвого оцепенения; а теперь оттуда путь его лежал снова в боор, в нижнеегипетскую темницу — глубже спуститься уже нельзя было. Возвращались дни черной Луны, огромные, равновеликие годам дни, в течение которых преисподняя имеет власть над погребенным красавцем. Он шел на убыль и умирал; но через три дня он должен был вырасти снова. В колодец бездны Аттар-Таммуз погружался вечерней звездой: но он непременно должен был вернуться оттуда звездою утренней. Это называют надеждой, а надежда — сладостный дар. Но есть в ней все-таки и что-то запретное, потому что она умаляет достоинство священного мига, предвосхищая еще не наступившие часы праздника, часы круговорота. У каждого часа есть своя честь, и не живет по-настоящему тот, кто не умеет отчаиваться. Иосиф держался такого взгляда. Его надежда была даже уверенностью, знанием; но он был дитя мгновения, и он плакал.