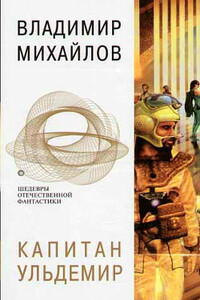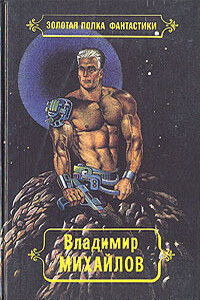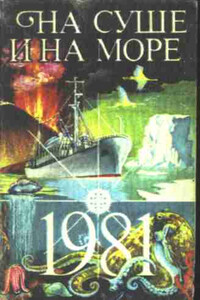Сторож брату моему | страница 23
Что еще о нем? Однажды я зашел по делу в его каюту как раз в тот миг, когда он выходил из своего сада памяти (так мы называем такие вот штуки, как та, моя, где сосед никогда не выходит из дачи). Он резко захлопнул дверцу, и я толком не успел ничего увидеть; там было что-то вроде гигантской чаши, до отказа заполненной людьми, исступленно оравшими что-то. Помню, я спросил его тогда (совершив бестактность), к какой эпохе относится это представление. Он серьезно ответил: «К эпохе рыцарей». И, чуть помедлив, добавил: «Всякий солдат в определенном смысле рыцарь, не так ли?». Я подумал и сказал, что, пожалуй, да. Я и сам был солдатом в свое время.
В еде Уве-Йорген умерен, к женщинам относится холодно и с некоторым презрением, хотя аскетом его не назовешь; добровольный аскетизм не свойствен солдатам.
И совсем другое дело – Питек. Мы прозвали его так, причем это – производное не от имени Питер, а от слова питекантроп. Он на нас не обижается, поскольку наука о происхождении человека для него так и осталась абсолютно неизвестной. Нас ведь обучали тому, что было необходимо, и при этом опасались перегрузить наши доисторические мозги, так что многие вершины современной культуры даже не появились на нашем горизонте. На самом деле Питек, конечно, не имеет никакого отношения к питекантропам – вернее, такое же, как любой из нас; он нормальный хомо сапиенс, и даже больше сапиенс, чем многие из моих знакомых по былым временам. Но прибыл он из какой-то вовсе уж невообразимой древности – для него, думается, Египет фараонов был далеким будущим, а рабовладельческий строй – светлой мечтой. По-моему, специалисты «частого гребня» и сами не знают, из какого именно времени его выдернули, а сам он говорит лишь что-то о годе синей воды – более точной хронологии из него не выжать. Он любит поговорить и, прожив день, старается обязательно рассказать кому-нибудь из нас содержание этого дня – хотя мы все время были тут рядом и знаем то же, что и он; правда, память у него великолепная, он никогда ничего не забывает, ни одной мелочи. Этим, да еще прекрасным, прямо-таки собачьим обонянием он выгодно отличается от нас.
Питек называл имя своего народа – но, насколько я помню, такой в истории не отмечен, как-то проскользнул стороной; называл он и свое имя, но никто из нас не мог воспроизвести ни единого звука: по-моему, для этого надо иметь как минимум три языка, каждый в два раза длиннее, чем наши, и попеременно завязывать эти языки узлом. У Питека, правда, язык один, и это великая загадка природы – как он им обходится. Единственное, что я знаю наверняка: там, где он жил, было тепло. Поэтому при малейшей возможности Питек старается пощеголять в своем натуральном виде; мускулатура у него и вправду завидная, и ни грамма жира. Нашим воспитателям не без труда удалось убедить Питека в том, что хотя бы самую малость надевать на себя необходимо. Он подчинился им, хотя и не поверил. Он коренаст, ходит бесшумно, великолепно прыгает, не-ест хлеба, а мясо, даже синтетическое, может поглощать в громадных количествах, предпочитая обходиться без вилки и ножа.