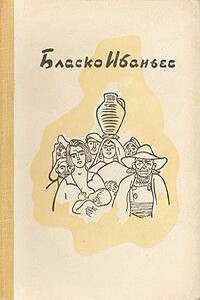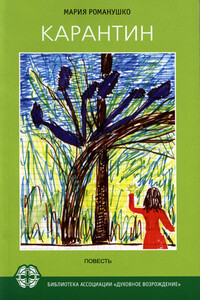Мужицкий сфинкс | страница 88
— Из конопели рубаха така толста, вошь через рубец не переползет, — шутит дед Мирон.
Он ласково называет: ржица, пшеничка, просцо, а про шипящий белыми султанами ячмень говорит:
— Ячмень вот какой умолотный. Только хропкий, колос ломатся.
Целыми огненными десятинами цветут подсолнухи, которые, отдав поздней осенью урожай масличных семян, обуглятся сухими скрюченными стеблями в поташную золу на кострах, точно высокие дымные сторожевые вышки встанут в степи, передавая весть о набеге кочевников...
Какое все это знакомое и родное! Как матерински близка мне эта древняя Микулина вотчина[59], земля-труженица и кормилица, которая, отработав и отмаявшись пыльной и потной летней страдой, укрывается теплым, стеганным на снежной вате одеялом и укладывается тысячеверстным сугробным погостом на долгую зимнюю спячку!
Разве не от нее с полынно-горьким молоком всосано мной с детства все, что еще осталось во мне здорового, жизненного и цельного!
Два десятилетия (и каких! — мировой войны и революции) протопало по этой равнине, а на ней почти не заметно перемен. Так же рядом с однолемешным плугом роет землю железным выбеленным сошником деревянная соха, и держит ее в своих дюжих корявых руках крестьянский Микула и покрикивает на своего верного конька: «В борозду! Бороздой!» Быть может, прослышит его с Волги городской Вольга[60] в буденновском шеломе, подъедет к загону с краснозвездной дружиной да уговорит Микулу вытрясти сошку, закинуть ее за ракитов куст и отправиться вместе с ним в тракторный совхоз или колхоз...
Те же убогие, крытые соломой, тесные и низкие хлева изб. Кое-где с крыш разобрана солома: зимой скормили голодному скоту. На задах уложены кирпичами навозные кизы из драгоценного удобрения — для вонючего дымного топлива в добавление к валежнику.
Все не только нищее, глиняно-соломенное, деревянное, самодельное, но и «времяное» (как метко сказал Семен Палыч) в этом крестьянском хозяйстве. Точно на время кочевой земледелец, мирской испольщик осел на целинную, дикую пустошь, хищнически снял несколько богатых урожаев, обмолотил на току лошадьми и отвеял зерно лопатой, погноил его в ямах и стравил на корм скоту, пожег соломенные ометы, бросил временные постройки и заскрипел, задымил колесами по целине на новые, еще не истощенные пахотой места. Сниматься и трогаться уже как будто и некуда, остались только тундры, тайга да солончаки — вплоть до Великого океана катит свою изумрудно-золотую зыбь Великий, или Тихий, океан хлебов. А все еще жива вековая кочевая хищническая ухватка и сноровка...