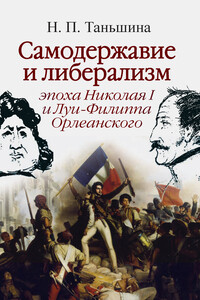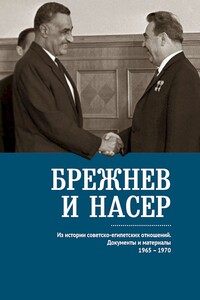Идеология и мать ее наука | страница 51
Когда идеологическое течение, претендующее на политическую власть или уже обладающее ею, сомневается в возможности привлечения на свою сторону «официального» научного сообщества, оно старается найти в нем диссидентов, заключить с ними пакт о взаимопомощи и всеми возможными средствами придать им возможно более высокий «научный» статус. Так, национал-социалисты Германии активно поддерживали сторонников концепции «ледовой космогонии» (Welteislehre), – экстравагантной теории объяснения мироздания и даже антропологии. Фашисты старались придать этой группе статус научного сообщества, альтернативного «международной и еврейской» науке. Когда оказалось, что немецкие ученые и без того послушно интегрировались в структуры Третьего рейха, интерес к «ледовикам» пропал.
Таким образом, ценность для идеологии одобрения со стороны ученого не связана с его рациональной (научной) оценкой того или иного утверждения. Одобрение ученого носит харизматический (то есть не рациональный, а мистический) характер – общественные противоречия вызваны не дефицитом знания, а столкновением идеалов и интересов. И тут точное знание ученого мало чем может помочь. Иначе и быть не может – сам научный метод и стиль мышления заставляет их упрощать реальность. Продолжая мысль Канта и Шопенгауэра, молодой Витгенштейн писал: «Мы чувствуем, что даже если даны ответы на все возможные научные вопросы, то наши жизненные проблемы еще даже и не затронуты».
В общественной жизни, объяснением которой и занимается идеология, все проблемы и противоречия неразрывно связаны с моральными ценностями, с идеалами и интересами. В идеологии образ объективной науки, нейтральной по отношению к этике, служит именно для того, чтобы отключить воздействие на человека моральных ценностей как чего-то неуместного в серьезном деле, сделать человека беззащитным перед внедряемыми в его сознание доктринами.
Здесь совершается подлог: принятие решений, непосредственно касающихся человека и связанных с моральными ценностями, совершается под воздействием авторитета науки, в принципе неспособной эти ценности даже различить. На это присущее западной демократии противоречие обращал внимание М. Вебер:
«Невозможность „научного“ оправдания практической позиции – кроме того случая, когда обсуждаются средства достижения заранее намеченной цели, – вытекает из более веских оснований. Стремление к такому оправданию принципиально лишено смысла, потому что различные ценностные порядки мира находятся в непримиримой борьбе» [41, с. 725].