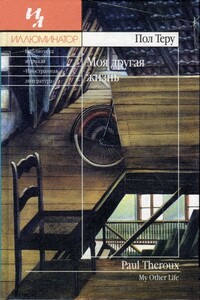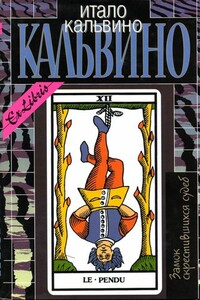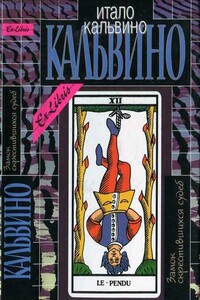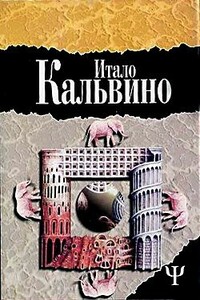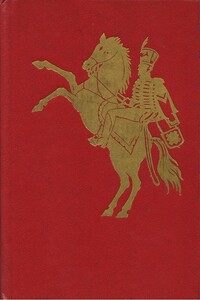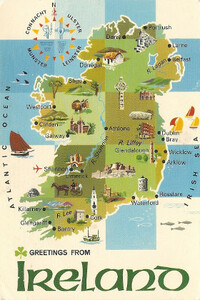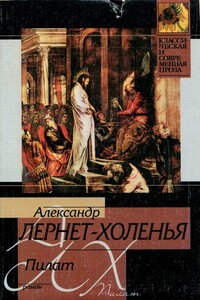Если однажды зимней ночью путник | страница 52
В революционном вихре, пронесшемся той леденящей, ветреной зимой по улицам столиц, сметая все на своем пути, подобно урагану, рождалась скрытая революция, которой суждено было сокрушить могущество плоти и пола; так думала Ирина и убедила в этом не только Валерьяна, – сын уездного судьи, защитивший диплом по политической экономии, поборник учений индийских пустосвятов и швейцарских любомудров, он наперед готов был примкнуть к любой мыслимой доктрине, – но и меня, прошедшего куда более суровую школу и твердо знавшего, что совсем скоро нашим судьбам будет вынесен окончательный приговор, то ли революционным трибуналом, то ли полевым судом белых, и что два караульных взвода, с той и с другой стороны, уже поджидают нас с ружьями на изготовку.
Я пробовал увильнуть, забиться в средоточие спирали, где линии расползались, как змеи, следуя изгибам Ирининого тела, упругого и гибкого в своем медленном танце, подвластном не ритму, но причудливому сплетению и растеканию змеящихся линий. Две змеиные головы хватает Ирина обеими руками; две змеиные головы с упрямым ожесточением проявляют в ответ готовность к прямолинейному проникновению; она же, наоборот, стояла на том, чтобы основное усилие соответствовало гибкости рептилии, изогнувшейся для этого в немыслимой корче.
Ибо то был первый догмат веры учрежденного Ириной культа: отречься от предвзятой вертикальности, прямолинейности, единственного, неумело скрываемого мужского достоинства, еще не утраченного нами, несмотря на то что мы смирились с положением рабов женщины, не допускавшей между нами и намека на ревность или верховенство. «Ниже, – шептала Ирина и давила ладонью на затылок Валерьяна, запуская пальцы в пушистые рыжие вихры молодого экономиста, не давая ему поднять лицо от своего лона, – еще ниже!» – а сама смотрела на меня пронизывающим взглядом и хотела, чтобы я тоже смотрел, чтобы наши взгляды устремились по бесконечным извилинам ломаных линий. Я чувствовал, что ее взгляд не отрывается от меня ни на миг; одновременно я чувствовал на себе и другой взгляд; он следил за мной везде и всюду, взгляд невидимой власти, ждавшей от меня только одного: смерти, не важно, той ли, которую я должен был принести другим, или моей собственной.
Я жду, когда петля Ирининого взгляда ослабнет. Вот наконец она смыкает глаза, и я крадусь в потемках между кушеткой, диваном и буржуйкой туда, где Валерьян оставил как всегда аккуратно свернутую одежду; я проскальзываю в полумраке опущенных Ирининых век, роюсь в карманах, в бумажнике Валерьяна, прячусь в непроглядной тьме ее плотно смеженных век, во мраке крика, вырывающегося из ее нутра, обнаруживаю сложенный вчетверо лист бумаги с моим именем, выведенным стальным пером под формулировкой смертных приговоров за предательство, подписанных, заверенных и скрепленных печатями установленного образца.