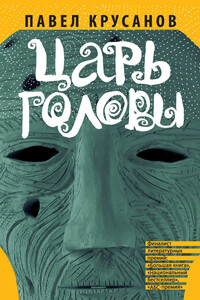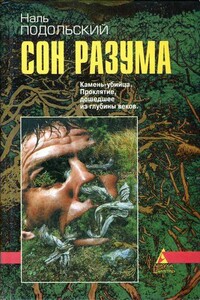Беспокойники города Питера | страница 139
Но, насколько я помню, Хренов, вообще долго вел себя хорошо, то есть не пел, когда выпьет, и не топал ногой — ну, это «хорошо» относительно меня, потому что я никогда не топал. Кстати, Серега Артюшков, который тоже провел с Хреновым немало дней жизни, говорит, что точно помнит, когда тот начал топать ногой и петь. Утверждает, что эти особенности Хренов приобрел после просмотра мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».
Где-то показывали такое кино, а с проходкой было напряженно, и они как-то все-таки проникли с черного хода, но не в зал, а на сцену, по то сторону экрана, и в компании таких же проходимцев плодотворно провели время, попивая и покуривая, за просмотром фильма с изнанки. Потом они куда-то пошли в гости, и там уже, в продолжение вечеринки, Хренов как раз и запел, и затопал.
Знаете, есть один удивительный момент в человеческой памяти, какая-то избирательная амнезия, но когда сегодня я спрашиваю различных знакомых про Хренова, то практически все помнят, только как он топал и пел.
Вот даже Лапицкий, например, первым делом вспоминает про то, как они где-то что-то праздновали, а Хренов начал петь «строубери филд форева», и их замели в опорный пункт во дворе «Хроники». Ну, там на Лапицкого посмотрели и отпустили, и барышню — оказывается, с ними еще и чья-то спутница затесалась — тоже отпустили. Но Лапицкий сказал, что без Хренова не уйдет и долго убеждал ментов, что Хренов, по сути, совершенно тихий и безобидный, что произошло досадное недоразумение. Те по-чему-то поверили и сказали, ладно, мол, катитесь отсюда Однако далеко им уйти не удалось, потому что во дворе снова зазвучало «строубери филд форева», а там такая акустика, что менты тут же выскочили и сцапали Хренова обратно. Тогда эта барышня пошла его вызволять, и все повторилось с буквальной точностью, как в той Хреновской песне: строубери филд форева.
Пел и топал. Ну, казалось бы, что такого? Вот сидят (или стоят, что тоже часто бывало) обыкновенные необыкновенные люди — литераторы там, их поклонницы, просто какие-нибудь с ними добрые пьяницы, — выпивают, беседуют, смеются чин-чинарем, как положено в таких случаях, потому что травят анекдоты, или обсуждают, например, программную статью Э. Гуссерля «Кризис европейского человечества и философия», и вдруг Хренов, кстати, переводчик обсуждаемой работы, ни с того ни с сего начинает напевать какую-то песню советских композиторов на стихи народного даргинского поэта Расула Гамзатова со словами: «исчезли солнечные дни, и птицы улете-ели, и вот проводим мы одни неделю за неде-елей, пусть у тебя на волоса-ах!." — это он поет уже громче, а как только дело доходит до „любимая-любимая-а!“ — совсем во всю глотку. Дальше идет проигрыш, и Хренов, сжимая в руке воображаемый гриф, достаточно громко, сладострастно изгибаясь во все стороны и тряся хайером, изображает дикий запил гитариста Ляпина: „пи-пи-пи-пи-у-пиу-пиу-пиу“ на несколько минут, а потом соло Болучевского на альте: „па-а-а-а-фа-фа-фа, фью-фью-фью, ду-фа-фа-ду“ — кошмар, при этом он еще задней ногой в ботинке отбивает за Корзинина на воображаемой установке: „бум-бум-бум!“ (Думаю, такой состав собирался только в голове у Хренова.) Народ, если это происходит в общественных местах, конечно, шарахается, а друзья ему говорят, хорош, Хренов, тебе шуметь, давай уже выпьем по-человечески, и он возвращается к реальности с ощущением, будто умылся чистой и теплой водой, — во всяком случае, такое у него выражение лица.