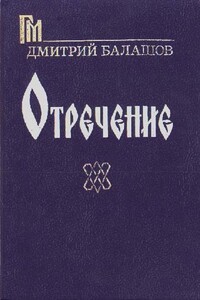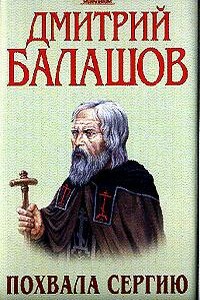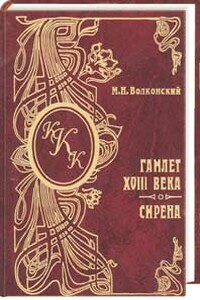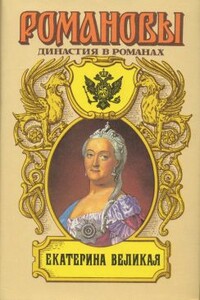Святая Русь | страница 33
Крупно рубленное, словно топором содеянное лицо князя, в коем нет-нет да и проглядывало родовое, вельяминовское, от покойной матери доставшееся, грубое это лицо стало прилепым, властным. Во всем облике Дмитрия, как-никак отца уже троих детей, проявилась наконец нужная княжеская стать, и срывался он нынче (как теперь) все реже и реже. И тем сильнее ненавидел Ивана Вельяминова, что был тому двоюродником!
Поход был решен, и воеводою поставлен уже явивший свои таланты в бою на Скорнишеве с князем Олегом волынянин Боброк. И теперь всего-то оставалось доправить рать до места, до города Булгара, где нынче по Мамаеву повеленью сильно потеснили русских торговых гостей. И не вскипел бы князь, кабы снова не встало, словно язва ноющая, старое вельяминовское дело!
Давеча Маша, Микулинская, князева свойка, приволоклась к Евдокии просить за Ивана. Дуня, оробев (как всегда, робея перед сестрой) отреклась:
– Не могу, Маша! Боюсь ему и сказать! Сильно гневен на Ивана… – И на невысказанные, рвущиеся наружу слова старшей сестры торопливо домолвила:
– Что ты! Твоего любит! И не сумуй! Да кабы в вине какой…
Маше не задались сыновья. И сейчас, вдыхая душноватый воздух горницы, детские запахи, глядя на толстых карапузов, что лезли, словно глупые щенки, в руки матери, всматриваясь в любопытные, чуть испуганные очи старшенькой, что тоже на всякий случай оттягивала материн атласный подол, Мария смутно позавидовала сестре, этим ее ежечасным заботам, этому ее пышному чадородному лону, ее вечной женской захлопотанности и тому, как у младшей сестры ни на что иное не хватает уже времени, и не надобно ей уже ничто иное, ибо главная забота, и участь, и труд женский – в полном отречении от себя самой ради мужа, ради детей, ради того, чтобы не кончалась, никогда не кончалась жизнь на земле!
И о том разговоре, о той косвенной просьбе помиловать ослушного боярина узнав, паче всего (и в дому своем не оставят в спокое!) оскорбился великий князь и потому бегал нынче по покою княжому, бегал в ярости, забыв о сидящих бояринах, ибо, как и тогда, в детстве, чуял несносное превосходство Ивана Вельяминова над собой.
Федор Свибло прокашлял значительно, дождав, когда князь, убегавшись, вбросил крупное тело в золоченое, испуганно скрипнувшее под ним креслице, раздумчиво произнес:
– Так-то сказать, Иван Вельяминов не мне чета! И умом, и возрастанием… Но воротить его, дак и воротить ему тысяцкое придет и села ти, а там и многие бояра ся огорчат! Василий Хвостов там… да многие!