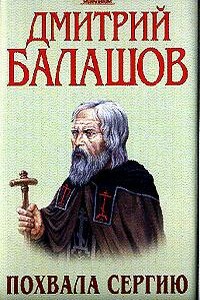Отречение | страница 84
Княжеские иконописцы помещались тут же, на дворе, поэтому переодеваться не стали. Настасья лишь накинула шелковый летник, а Михаил даже и зипуна надевать не стал.
В мастерской была прохлада и тишина. Мастера засуетились было, завидя великую княгиню и князя Всеволода, но Михаил охлопал старшего по плечам, подмигнул подмастерьям, сам поднял на подмости и утвердил понравившуюся ему работу, начал показывать и хвалить.
Что-то было в пошибе новгородца неуловимо крестьянское, простое ли – уже и слишком. Настасья глядела щурясь, поджимая губы. Всеволод, крякнув, стал поглядывать по сторонам – на каменные краскотерки, чашечки с краской и кисти, яичную скорлупу и толченый алебастр, приготовленный для левкаса. Ему работа не показалась, свои, тверичи, были лучше, казовитее, строже. Мастер неуверенно и угрюмо взглядывал, поправляя и поправляя ремешок на спутанных буйных волосах, чуя нутром, что труд его не показался княжескому семейству, и потому сникая и темнея ликом…
Позже, когда вышли, Михаил с жаром начал защищать мастера. Всеволод нехотя возражал. Ему живопись Великого Новгорода той, еще дотатарской поры казалась гораздо более совершенной и величественной. Михаил все наскакивал на брата, Всеволод качал головой, отрицая:
– Брось, Миша! Были у новгородцев изографы – два века назад! «Спаса Нерукотворного» ихнего возьми хоть, да весь Юрьевский иконостас! Доколь у Византии учились, у Комниновых изографов, то были и мастера! Сила! Взгляд! Воистину – царь небесный! А письмо! Каждая черта проведена словно бы временем самим, а не рукою смертною. Я деда нашего вижу таким. Ушло величие. А эти что? Горожане! Смерды… И живопись не точна, не красна, нету той законченной, горе вознесенной… Властности нет!
– Но цвет…
– И цвет! И свет! Невесть отколе. То было: самосветящий лик, горняя благодать! Немерцающий свет, золото!
– Ну, брат, после Григория Паламы…
– Да, да, исихия твоя! Дак где она-то тут?
– Я и не спорю о том, – не уступал Михаил старшему брату, – но тут зри: движение, поиск! Этот красный цвет вместо золотого… Возвышенное ушло с Киевской Русью, теперь другое грядет: душепонятность, близость тому самому смерду, глаза в глаза! И из этого вот, нынешнего, скоро проглянет великое, попомни меня!
– Нет, Михаил! – Всеволод решительно покрутил головою, остановясь на ступенях крыльца и озирая обширный княжеский двор со снующею там и сям прислугой. – Тогда уж суздальское письмо возьми. И у них сияние цвета. Но какая точность прориси! Вот давешнее «Положение во гроб»: изографу для горя довольно одних вскинутых рук, а там – согнутые плечи, а там – наклон головы, стихающая в сосредоточии волна… Узришь такое – и самого себя укоришь за невместное князю буйство в иной час… Да, не тем будь помянута и Москва, а при владыке Феогносте были и у них добрые изографы, и свои от них навыкли. Видал, бывал на Москве. «Спаса» назову из Успенья – самосветящая высота, умное восхождение! Свет как бы взошел в тварную плоть, и зрак надмирен, от высшего разума к бытию, зрак горний! А ети твои исихасты – дак суета, мука, страсть…