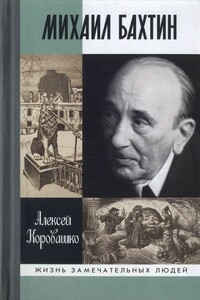Выбор | страница 78
- Так как-то лучше. Теперь начинаю узнавать тебя, - услышал он голос Маши и увидел, как лучистая чистота ее глаз на секунду соединилась со снисходительной усмешкой во взгляде Ильи, и она повернулась к Владимиру, тронула пальцем его волосы. - И тебя? Почему ты так на меня смотришь?
- Я? Никак не смотрю. - Он отклонил голову и, чтобы оправдать невольную резкость слов, сказал сердито: - Не люблю, когда меня причесывают, как какую-то кошку.
- Если я похож на кошку, то твоя наблюдательность потрясает. - Илья развалился в кресле, без стеснения оглядывая комнату, он умел быстро осваиваться и обладал завидным качеством преодолевать препятствия и неудобства в любой обстановке. - Маша, мы шатались по Москве с самого утра, зашли, чтобы удостовериться, не уехала ли ты. Весь двор пуст, все смылись в эвакуацию. Ты не уезжаешь?
- Я не знаю. Ничего не знаю. Если мы поедем, то только с мамой, когда она выздоровеет, - проговорила Маша и села на тахту, кутаясь в широкую ей безрукавку. - Не будем об этом. Не хочу, не хочу. Лучше скажите, мальчики, что же такое под Москвой? Неужели все так страшно?
В ожидании ответа она потерлась подбородком о мех телогрейки, Владимир подумал, что у нее замерзли губы, вообразил их прохладную вишневую упругость, с внутренним ознобом ощутил звук ее голоса, близость ее лица, ее коленей, чуть толстоватых сейчас, обтянутых плотными шерстяными чулками, и его пронзительно обдул ветерок радости, перехватывающей дыхание каждый раз, когда он видел ее... Но этот ветерок, похожий на ожидание праздника, и одновременно предчувствие беды были настолько властными, что сразу изменяли в нем что-то, делали его против воли резким, грубым.
Илья полусерьезно стал рассказывать о рытье окопов под Можайском, о том, как однажды ночью, вооружившись лопатами, ловили в поле, но так и не поймали сброшенных с самолета немецких диверсантов, о том, что неделю назад все были подняты по тревоге, уже обойденные справа и слева танками, и по лесам вместе с остатками какого-то разбитого стрелкового полка выходили из окружения к Москве...
- О, Гераклы, Александры Македонские! О, грандиозные герои нашего времени! - выговорил, массажируя вспотевший лоб, Эдуард Аркадьевич и от неуложенного чемодана круто развернулся к столу, налил рюмку коньяка, замученно закатил выпуклые глаза к потолку, выпил, сказал еще раз "грандиозные Гераклы" и опять принялся страдальчески массажировать лоб, утомленно закатывать глаза, ходить по комнате от стола к дивану, где накрытая пледом и шубкой задумчиво-грустно читала Тамара Аркадьевна. - Ваш грандиозный рассказ, молодой человек, потрясает до глубины души! - заговорил он вдруг, несколько манерно картавя с пасмурной едкостью. - Какая изумительная пора детства и юности! Впереди, конечно, две счастливые жизни, а молодость и здоровье бесконечны! Все друзья красивы, благородны и бессмертны, а враги косолапы, косорылы и бессильны! Как я хотел бы, как мечтал бы хоть день, хоть час, хоть несколько минут пожить в этом милом, совершенно грандиозном состоянии детства! В этом рае голубых и лазурных снов! О, счастливая пора, когда все на свете - ла-адушки, ладушки, где были - у бабушки! Ты слышишь, Тамарочка, милая? Поистине не хочу пребывания в зрелом, разумном, практичном благолепии, но хочу детства, господи, прости за мечты тщетные! О, милая пора, очей очарованье! Кажется, так у Пушкина, мои ребятушки, ладушки?