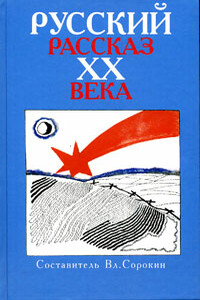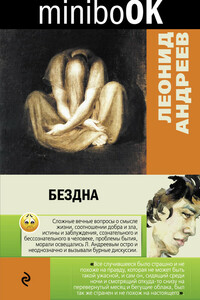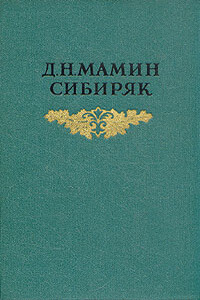Рассказ о семи повешенных | страница 48
Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:
– Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!
Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:
– Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!
Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился.
– Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, – сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало иссиня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.
Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.
– Станция! – сказал Сергей.
Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно – кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса – скользили – опять вертелись – и вдруг стали.
Поезд остановился.
Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.
Спустились со ступенек.
– Разве пешком? – спросил кто-то почти весело.
– Тут недалеко, – ответил другой кто-то так же весело.
Потом большой, черной, молчаливой толпою шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища; и, громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:
– Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.
Кто-то виновато оправдывался:
– Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.
Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:
«Действительно, не могли дороги прочистить».
То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все – и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор: