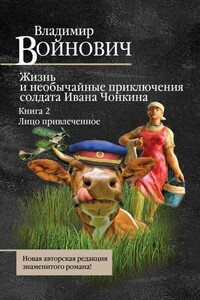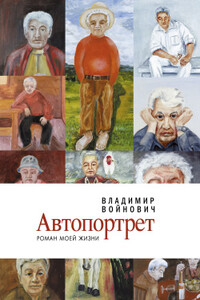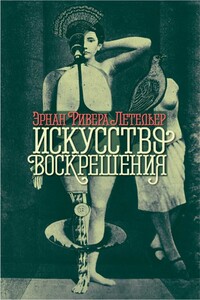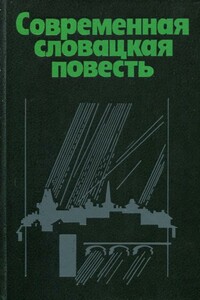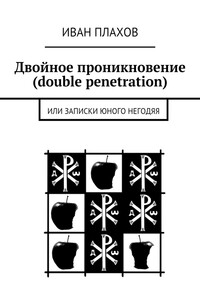Портрет на фоне мифа | страница 4
– Налейте мне рюмку водки, а я вам за это кое-что почитаю.
Рюмка, естественно, была налита.
Поставив на колени толстый портфель, Твардовский достал из него оранжевую папку с надписью на ней тиснеными буквами К до-кладу, развязал коричневые тесемки. Я увидел серую бумагу и плотную машинопись, без интервалов и почти без полей. А.Т. чуть-чуть отпил из рюмки, надел очки, осмотрел слушателей, и уже тут возникло предощущение чуда.
В пять часов утра, – начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, – как всегда, пробило подъем – молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать…
Таких начал даже в большой литературе немного. Их волшебство в самой что ни на есть обыкновенности слов, в простоте, банальности описания, к таким я отношу, например, строки: В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет. Или (другая поэтика) в чеховской Скрипке Ротшильда: Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. Или вот в Школе Аркадия Гайдара (что бы ни говорили теперь, талантливый был писатель): Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах…
Такие начала, как камертон, дающий сразу верную ноту. Они завораживают читателя, влекут и почти никогда не обманывают.
Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель.
Десятилетие с середины пятидесятых до середины шестидесятых годов, названное впоследствии оттепелью, было для литературы весьма урожайно. В поэзии и, с некоторым отставанием, в прозе одно за другим возникали новые имена молодых авторов, которые писали откровеннее и талантливее большинства своих предшественников советского времени. В Юности, в Новом мире, в альманахах Литературная Москва, Тарусские страницы появлялись рассказы и повести дотоле неизвестных Юрия Казакова, Бориса Балтера, Василия Аксенова, Анатолия Гладилина, Георгия Владимова, Владимира Максимова, и что ни вещь, то сенсация и разговоры на каждом шагу: Как? Неужели вы не читали До свидания, мальчики? А Юрий Домбровский вам не попадался? Вы должны это немедленно найти и прочесть. Да что вы с вашим Семеновым? Вот Казаков! Это же чистый Бунин! Толпа талантов высыпала на литературное поле, поражая воображение читающей публики. Таланты писали замечательно, но чего-то в их сочинениях все-таки не хватало. Один писал почти как Бунин, другой подражал Сэлинджеру, третий был ближе к Ремарку, четвертый работал под Хемингуэя. Но было предощущение, что должен явиться кто-то, не похожий ни на кого, и затмить сразу всех.