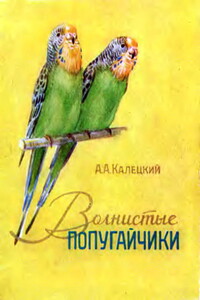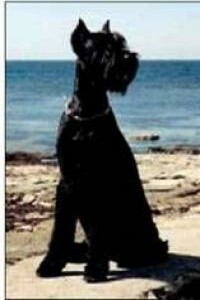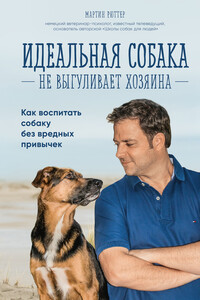Философия кошки | страница 86
(Кстати, еще и сегодня в этом может легко убедиться каждый: даже зная, что находящийся за окном человек не в состоянии расслышать ничего из произносимого нами, мы, пытаясь жестами донести до него какую-то мысль, тем не менее сопровождаем ее подчеркнутой артикуляцией. При этом вся наша мимика вовсе не преследует цель облегчить понимание – чаще всего она производится рефлекторно, бессознательно, в сущности даже не замечаясь нами. Больше того, если бы вдруг какие-то привходящие обстоятельства продиктовали необходимость полного отказа от нее, это потребовало бы от нас определенных усилий.)
Не случайно поэтому первичное рожденное человеком искусство по инерции еще очень долгое время объединяло в себе и звуковой ряд и ряд изобразительный, проще говоря, танец и слово. Лишь по истечении многих тысячелетий, только с развитием способности человека к отвлеченному образному мышлению и совершенствованием (весьма, кстати, непростых и доступных не каждому в равной мере) навыков абстрактной мысли из всего этого сложного сплава начинает выделяться в нечто самостоятельное и ритмически организованное слово, и музыка, и танец.
В сущности все это проистекает из того, что прямым назначением «настоящего» знака, то есть того, что подается уже не бессознательно, как порожденный острой болью стон, но совершенно осмысленно и направленно, служила, как уже было сказано здесь, передача накопленного опыта, иными словами, научение кого-то другого какой-то операции, какому-то виду деятельности. А научить сложному ремеслу без имитации самой деятельности там, где развитые формы общения еще только начинают формироваться, абсолютно невозможно.
Но ведь кошка-то отстоит от нас значительно дальше, чем даже самые далекие предки первостроителей древних зиккуратов Междуречья и погребальных сооружений Египта. Поэтому требовать от нее, чтобы она понимала смысл произносимых нами, людьми, слов, и одновременно сама была способна выразить какую-то свою мысль одним только голосом, – куда более глупо, чем требовать того же от абсолютно незнакомого с нашей речью чужеземца. Язык, которым пользуется она, подобно первичному языку древнего человека, не сводится, да и не может свестись к одним лишь звуковым сигналам, он гораздо более сложен и развит, и подлинный «орган» ее «речи» – точно так же, как и у далекого нашего пращура – это все ее тело. Игнорировать это обстоятельство – значит, игнорировать самый смысл всего того, что она хочет и может сообщить нам.